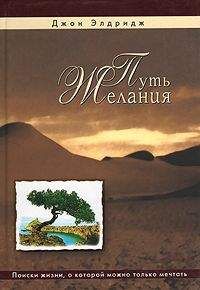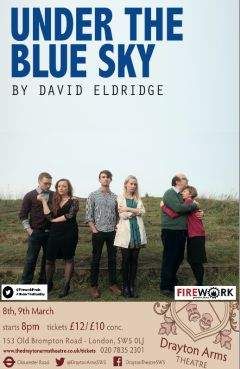Далия Трускиновская - Семья
Странным было другое — что она не подошла и даже не окликнула.
Потом Лев Кириллович проверял на Мерлине поздравительные куплеты — смешно или не смешно. Потом девчонки натянули на него Клашкин заячий костюм, а Джимми поклялась, что говорить не придется, только прыгать по-кенгуриному, чтобы уши тряслись.
Поздравление заказал дядя жениха, поздравительной бригаде следовало выдвигаться в десять вечера, чтобы в одиннадцать уже быть в зале. Джимми поехала вместе с бригадой — она знала невесту и хотела, раз уж так вышло, поздравить ее лично.
Мерлин в заячьем образе вызвал у гостей гомерический хохот, а когда он принялся скакать рядом со Львом Кирилловичем в смокинге, то уже и смеяться никто не мог — только икать.
— Не знали мы всех твоих талантов, — сказала Джимми. — С меня — премия!
Бригаду не желали отпускать, и толстая тетка в парчовом платье, ведущая свадьбы, потребовала, чтобы поздравители сплясали вместе с гостями.
Танцевать Мерлин не умел. Ему было стыдно проделывать эти странные телодвижения, шевелить бедрами, трястись, стоя на одном месте, поворачиваться то так, то сяк. Однако его втянули в круг. Он старался двигаться поменьше, но Джимми, разыгравшись, встала прямо перед ним. Отплясывала она так, что начались овации.
Но, танцуя, она норовила поймать его взгляд.
Он это понял не сразу. И то, что во взгляде был не призыв, а вопрос, никак не мог уразуметь.
Потом Джимми вообще не обращала на него внимания, а сидела со старшим поколением и слушала, как мастерски травит анекдоты Лев Кириллович. Она не торопилась уводить поздравительную бригаду. Мерлин вылез из заячьего доспеха, чтобы не порвать его и не испачкать, упаковал белый комбинезон с пришитой ушастой шапкой в сумку и дальше не знал, куда себя девать. На столах было много всякой всячины, и он пристроился к блюду с баклажанными рулетиками.
В третьем часу ночи Джимми сказала, что пора и честь знать. Она вызвала два такси, чтобы развезти ребят, сама оказалась в одной машине с Мерлином и Даником.
Даник был ее давним приятелем, долговязым тридцатилетним мальчиком с огромными удивленными глазами и уже заметными залысинами.
— Дань, склероз у меня. Ты когда родился, в марте или в апреле? — вдруг спросила она. — Помню, что весной, а когда — хоть тресни…
— В мае я родился. Имеешь шанс поздравить.
— Так мы в офисе знаешь как отпразднуем! А ты когда?
Мерлин, уже задремавший, не сразу понял, о чем речь. Наконец врубился.
— Тридцатого октября, — сказал он.
— Тебе, значит, этой осенью исполнится восемнадцать?
— Ну да…
— Ясно…
Она, пошевелив пальцами, произвела какие-то подсчеты.
— А помнишь, как Яна поздравляли? — спросил Даник. Судя по интонации, он ждал бурных воспоминаний, но Джимми ограничилась кратким:
— Естественно.
Это словечко приволок в «Беги-город Лев Кириллович и произносил его так: «ессссссно», словно алкоголик, который не в состоянии справиться со фонетической сложной конструкцией.
Даника отвезли первым.
— Выручай, — сказала Джимми Мерлину. — Я руку потянула, вот тут, а нужно сумку втащить наверх.
Не столько сказала, сколько приказала…
Откуда в багажнике такси вдруг взялась тяжелая сумка, он так и не понял.
Они поднялись к Джимми. Мерлин чувствовал себя неловко — ночью женщина зазвала в свое жилище… Но, с другой стороны, она велела таксисту ждать. Должно быть, все дело именно в сумке и в пострадавшей кисти правой руки.
Он никогда не бывал в гостях у Джимми — и все же квартира была чем-то знакома. Он даже знал словечко для такого знакомства — «дежа вю». Не вся, нет! Но старое трюмо в прихожей, уже почти антикварное трюмо, увенчанное резными деревянными фруктами с листочками, но ваза на журнальном столике, пестрое стекло, полосы которого закручиваются по спирали, но ряд зеленых книжек на полке…
— Вот тут я живу, — сказала Джимми, — и стараюсь ничего не менять. Когда папа умер, мы с мамой жили вместе еще около года, потом она познакомилась с Павлом Робертовичем, вышла за него и переехала к нему, а я осталась тут. Вот зеркало — это моя первая покупка в хозяйство, мне тогда было семнадцать лет, правда, классное зеркало?
Ничего классного в этой овальной штуковине Мерлин не видел. Он посмотрел на себя и пригладил волосы.
— А вот еще реликвия, — Джимми показала головку Нефертити на книжной полке и ничего больше не добавила.
Она словно бы чего-то ждала.
Опыт общения с женщинами у Мерлина был невелик, основные знание он приобрел, когда вместе с приятелями несколько раз смотрел порнуху, а любовные линии в кино презирал — от них веяло пошлостью. Однако даже ему было ясно — Джимми не имеет сексуальных намерений, хотя, может, очень удачно их скрывает. Но заглядывает в лицо, в глаза, что-то хочет услышать…
— А вот главная ценность в этом доме, — Джимми показала рукой, и Мерлин послушно обернулся.
Этот портрет нельзя было не заметить. Одна темная и широкая металлическая рамка чего стоила…
Юноше на портрете было не более двадцати трех лет — гладкое лицо еще не нажило вообще никаких морщин. Но это было не ангельское личико — взгляд темных глаз твердый и упрямый, губы сжаты, как у человека стойкого и уверенного в себе. Прядь светлых волос падала на лоб — примерно так, как у Джимми. Однако что-то в портрете было несовременное, давнее…
Мерлин посмотрел в глаза юноши и прочитал в них вызов. Как будто незнакомец спрашивал: а это кто еще такой?
— Сам-то ты кто такой? — беззвучно спросил его Мерлин. — Висишь тут непонятно зачем, и совершенно твоя рожа мне не нравится, я не девчонка, чтобы от таких рож балдеть, и даже странно, что ты имеешь что-то общее с Джимкой.
С каждой долей секунды этот человек становился все неприятнее и неприятнее. Он и смотрел из своей рамки как-то издевательски. Он словно сообщал: я тут главный, я тут хозяин, а ты как приперся, так и вылетишь отсюда.
— Вылетишь ты, вон в то окно, — беззвучно пообещал ему Мерлин. — Сейчас тут я, хотя, хотя…
Входя в Джиммину квартиру, он имел одно желание — избавиться от сумки и сбежать. Конечно, он понимал, что когда женщина, на ночь глядя, затаскивает мужчину в свой дом, у нее на уме может быть всякое. Но думать об этом всяком совершенно не хотелось. Все-таки разница в возрасте была огромной. Однако портрет вызвал в нем совершенно неожиданную ревность — Мерлин и не подозревал, что вообще способен ревновать Джимми. Когда ее обнимала и целовала команда «Беги-города», он только морщился от телячьих нежностей.
Этот, на портрете, хвастался тем, что отнял у него Джимми. Только что язык не показывал. Мерлин ощутил это так остро, что дыхание перехватило и дурь в голову шибанула — как перед дракой.