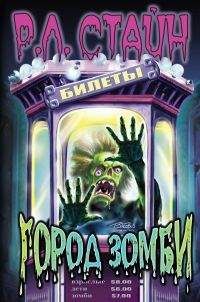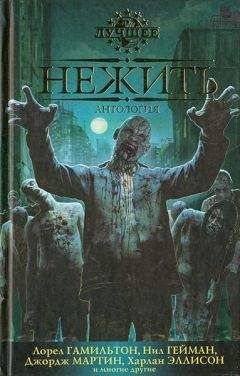Орден Змей (СИ) - Ершов Евгений
Резной шкаф, большой стол, покрытый зеленым сукном, заваленный книгами и бумагами, на противоположной стене — фарфоровые тарелки, расписанные красками. На самых больших по центру — герб Ломокны — на лазоревом поле длинная металлическая палка, лом, воткнутый в холм, наверху по сторонам две шестиконечные звезды, направленные двумя углами вверх и вниз. На втором — картина человека в древней нерусской одежде, узнал в нем Карла Ломокку, мифического основателя города.
Повернул голову дальше и увидел еще одну кровать — на ней кто-то лежит, но мне непонятно, кто это: ложе находится у самой стены, неясный свет от лампадки и сквозь задернутые вышитые занавески окна не дают возможности разглядеть. Надежда вспыхнула в моем сердце, и я решил подойти и посмотреть, кто же это.
Сделал движение, чтобы встать — и понял, что привязан за обе ноги и здоровую левую руку к кровати. Привязан не жестко, но могу только немного сдвинуться на кровати, могу сидеть — не более того. От неожиданности вскрикнул, а человек в дальнем углу комнаты проснулся и повернул ко мне голову.
— А-а-а, — я ожидал увидеть кого угодно, но только не бабу Нюру, которая деловито хрустнув костями, улыбнулась своей обворожительной (нет) улыбкой. Вспомнил, как решил ее съесть перед превращением, и мне стало неловко.
— Что, милок, кушать меня не будешь? — шамкает старуха. Она что, мысли читает, с ужасом подумал я, тупо таращась на ждущую ответа бабу Нюру.
— Не будешь, — решила она и подошла ко мне, — тогда давай отвяжу, а то ты своей одной рукой до вечера не управишься.
— До вечера? Сколько времени прошло? Где я? Что с родителями, с сестрой? — из меня вылетела череда вопросов, и прихватило горло.
— Так, погоди, погоди, — старуха, подошедшая к моей кровати, остановилась, и останавливающе помахала руками — Я, пожалуй, пока тебя не буду развязывать, от греха… Значит так, Ваня. Родители твои погибли.
Мое сердце провалилось вниз, кулаки сжались, а на глаза навернулись слезы.
— Но с Машей всё хорошо, — продолжила баба Нюра, а я облегченно вздохнул, ведь мысленно уже попрощался и с ней, — она тут, в соседней комнате, спит. Не будем пока ее трогать, скоро сама встанет.
Видя, что я мирно сижу, осмысляя страшные и радостные известия, старушка продолжила:
— Ну, вижу, что буянить не будешь, так что всё же развяжу.
Пока баба Нюра меня развязывала, бормоча что-то своим осенним шелестящим голосом, я, придавленный и разбитый, пытался осознать, что я больше никогда не увижу родителей, что больше никогда мне не просыпаться, разбуженным мамой, никогда не сходить с отцом на Смоква-реку наловить раков, никогда не идти рядом с ним, облаченным в парадную полицейскую форму, никогда не пробовать маминых блюд, никогда…
Никогда, никогда, никогда — это слово стучало у меня в голове, вбивая всю мою маленькую жизнь в грязь, уничтожая ее, развеивая в прах. Удары молотка по гвоздям в крышку гроба — никогда! никогда! никогда…
И маленькая Машка, сестрица, у меня на руках. У меня, который додумался долбить вздымающийся лед реки палкой, хотя знал о скорой Мертвой седмице. У меня, который не умеет и не знает ничего. У меня, который может превратиться в мертвяка и сожрать… того, кто будет рядом… ее.
Я встряхнул наваждение, и уставился на бабу Нюру. Она явно что-то закончила говорить и ждала от меня ответа. Я же пребывал в ступоре и просто смотрел на ее древнее лицо, отмечая множество глубоких морщин, впалые щеки, седые пряди, выбивающиеся из-под неизменного разноцветного платка. Ее сухие тонкие губы зашевелились. С трудом до меня доходили слова:
— …будем завтракать… та еще повариха, но уж чем богаты… к сестре.
Последнее слово меня зацепило и вывело из заморозки.
— Да, сестра, я хочу ее увидеть, — сказал я.
Баба Нюра покачала головой, и пошла по направлению к выходу из комнаты, а я за ней. Перешагнув порог, я оказался в другой комнате, где стояла одна кровать, а в ней мирно спала Машка. Я с удивлением смотрел на эту идиллическую картину, будто из уже очень далекого прошлого.
— Вы тут побудьте, а я пока… — старуха махнула рукой и прохрустела дальше, оставляя меня стоящим перед Машкой.
Я сел на кровать, погладил сестрицу по голове, поправил штопанное одеяло. От этого девочка проснулась, протерла маленькими ладошками свои огромные голубые глаза, увидела меня и бросилась обниматься.
— Братик, Ваня! А я уж думала, что ты совсем разболелся! Будила тебя, сидела рядом с тобой. Но батюшка Спиридон сказал, что не надо тебя трогать, что тебя чуть зомби не съел. А мама, — она всхлипнула, — и папа… Они…
Сестра разрыдалась, у меня тоже навернулись на глаза слезы. Так мы и сидели, обнявшись, и время проходило мимо нас, заливая утренним светом комнату. Наконец, Маша успокоилась. Сбивчиво и прерываясь на новые слезы, она рассказала, что случилось на площади, и в конце-концов у меня сложилась картина произошедшего. Всё было очень просто.
Когда лошади, от которых я смог отпрыгнуть и оказался под навесом, влетели в толпу, то единственное, что успел сделать отец, в отчаянной попытке спасти дочь — это швырнуть ее из всех сил в сторону. Пролетев пару саженей, Маша оказалась подхваченной кем-то из толпы, и так, целая и невредимая, оказалась потом под присмотром моей подруги Веры и ее родителей. А уже после того, как всё улеглось, бесчувственного меня и бедную сестру взял на попечение отец Спиридон. Теперь мы находились в его доме, где он попросил присмотреть за нами бабу Нюру, пока попадья — Наталья, занята своими пятью детьми.
Деревянный дом священника находился, как я помнил, на Петропавловской улице, рядом с одноименными церковью и кладбищем, и выглянув на улицу, я увидел знакомую ограду и ворота, которые неделю назад выбил испуганный крестьянин, подгоняемый Спиридоном. Теперь створки ворот висели на месте, и ничего не напоминало об устроенном тогда погроме.
Вскоре нас позвали трапезничать, где священник повелел мне креститься левой рукой, раз уж правая была замотана, при этом внимательно наблюдая, как я это делаю, одновременно произнося «Благослови ястие и питие рабом Твоим…». Также прочитал и молитву по родителям и другим погибшим вчера. Совершенно не чувствуя вкуса еды, я, под обхаживание попадьи, запихивал в себя что-то, жевал, когда мне напоминали жевать, глотал, когда говорили глотать. Машка была вялой, с красными от слез глазами, но вроде бы всё же более живая, чем я.
Когда уже допивали чай, пришли Васька с Генкой. Их усадили за общий стол, хоть они и отказывались. От ребят я узнал, что из наших в наезде ямщика и последующей давки серьезно пострадал только отец Старика — Павел. У него была сломана нога, и теперь он находился в недавно открытой в городе больнице Силковых и Решапова. О произошедшем вчера под пологом все молчали, только бросали на меня странные взгляды. Я тоже помалкивал.
С приходом друзей отупение ненадолго отступило, но потом вновь вернулось, и я сидел, уставившись на дно чашки с допитым чаем. Странная тишина отвлекала меня от пяления в чайную гущу. Подняв голову и оглядевшись, я понял, что за столом остались только священник, два моих друга и баба Нюра. Ни попадьи, ни детей Спиридона, ни моей сестры уже не было.
— Я хочу увидеть родителей, — бесцветным голосом произнес я.
— Ваня, думаю, тебе не стоит… — начал батюшка.
— Я должен их увидеть, — перебил я. Мне было всё равно, что я перебиваю священника.
— Хорошо, — вздохнув, ответил Спиридон.
Прочитав благодарственную молитву, мы пошли на кладбище и через него — к Петропавловской церкви в центре.
— Мы тут подождем, — смущенно сказал Генка за себя и Ваську.
Втроем со старухой и священником мы вошли в церковь. Солнце пробивалось сквозь окна, залитая светом церковь будто радовалось приходу людей. А в центре стояли гробы — одни простые сосновые, другие обтянутые тканью, богато украшенные. Раз, два, три… Я сосчитал шестнадцать гробов.
Спиридон повел меня к гробам, обтянутым фиолетовой тканью.