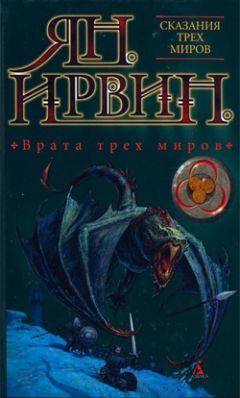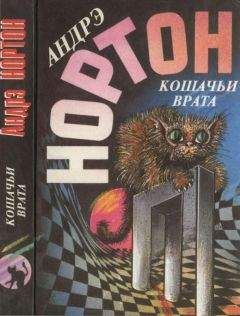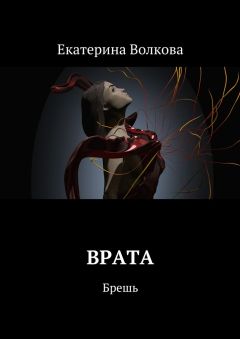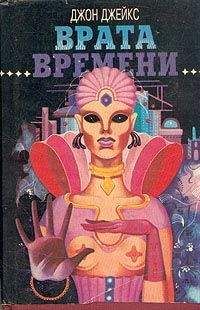Грэм Джойс - Там, где кончается волшебство
Когда я вошла в палату, сердце у меня упало. Мамочкина кровать была огорожена ширмами. Я оттолкнула ширму. На кровати рядом с Мамочкой лежал мужчина в костюме. Я просто остолбенела. Это был Уильям. Он скинул обувь и свернулся калачиком, примостив голову у Мамочки на груди. Как будто она его успокаивала. Не знаю, разрешают ли вообще такое в больнице.
Мамочка посмотрела на меня:
— Дай нам еще несколько минут.
Я вышла на улицу и села на травку рядом с приемным покоем скорой помощи. Два фельдшера и медсестра курили и ржали над каким-то анекдотом. Тут же прогуливалась парочка отчаянно перебинтованных персонажей с пробитой головой. Когда фельдшеры с медсестрой пошли обратно, я тоже решила, что можно возвращаться.
Уильям уже куда-то пропал. Мамочка сидела на кровати и выглядела лучше, чем обычно.
— Где Уильям? Что он здесь делал? — Хотя в действительности я хотела знать, кто он такой.
— Осока, мы очень, очень старые друзья. Такие старые, что даже не верится. Скажи мне лучше, как у тебя дела. Как ты справляешься с хозяйством в одиночку?
— Я? Я в полном порядке. Что они тут с тобою делают? Когда отпустят?
— Никто мне ничего не говорит. Тычут в меня то здесь, то там. Взяли уже и кровь, и мочу, и костную ткань. Залезли даже в задницу, докторишки хреновы. Я им сказала: вы вряд ли там найдете что-то новое. Но они молчат как рыбы.
Я, как могла, старалась развлечь ее рассказами. Нельзя сказать, что это было просто: ведь я все время ездила к ней, а больше в моей жизни особо ничего не происходило. Я рассказала, что заезжал грязнуля, что Джудит строила ему глазки.
— Профурсетка, — опять сказала Мамочка.
Я ей не стала говорить, что Джудит читала дым, хотя она, наверное, и так об этом знала. Когда я подошла к поездке с продавцом, явилась медсестра и убрала ширмы.
— Кто их сюда поставил? — спросила она, очень строго глядя на меня.
Я лишь похлопала глазами.
9
На следующий день я драила дом. Я терла, мыла и мела, как не в себе. Открыла настежь двери и окна, устроив показательный сквозняк, и приговаривала: «Вон, чертята, вон отсюда!» Короче, делала все те же глупости, которые обычно делала Мамочка. Примерно в середине дня раздался громкий стук в распахнутую входную дверь.
Перебежав из задней части дома в переднюю, я сразу же сообразила, что это кто-то из стоуксовских работничков. У них всегда такой казенный вид: фуражка, длинный плащ. Но тут я пригляделась и с ужасом под всей этой одеждой узнала Артура Макканна. Он выглядел так, будто хотел провалиться под землю от стыда. Но вместо этого протянул мне письмо.
— Ты что, работаешь на Стоуксов?
— Осока, прочитай письмо. Боюсь, оно тебе не понравится.
Я разорвала конверт. Внутри был счет за неуплаченную аренду.
— Так много?!
— Вы не платили за аренду больше года.
— Откуда же я знала! Ведь этим занималась Мамочка.
— Это уж ваше дело, но там еще говорится, что у тебя всего четыре недели, чтобы погасить задолженность.
— Четыре недели! Где мы найдем такую кучу денег? Тут что-то не так.
— Прости, Осока. Я, как услышал, сразу же вызвался сам отнести письмо. Если не заплатить, они вас выставят на улицу.
— Четыре недели!
— Они и так считают, что проявляют небывалую щедрость.
— Щедрость? Как же! Дождались, сволочи, когда Мамочка слегла в больницу, и давай.
— Осока, чего тут говорить. Конечно, они гады, я бы так никогда не сделал, но такой уж расклад. Не знаю почему, но я подумал, что лучше я принесу письмо, чем кто-нибудь другой. Я все ж таки тебя знаю. Чуток.
Он надул щеки и потихонечку выпустил из них воздух: «пфф». После чего по-старомодному коснулся козырька фуражки и удалился по тропинке через сад. Когда он открывал и закрывал калитку петля с негодованием взвизгнула, словно ее обидели.
Наверное, тогда я впервые в жизни осознала, насколько беспомощна без Мамочки. Я не была трусихой и умела трудиться, но Мамочка дубовой дверью с чугунными засовами хранила меня от окружающего мира. Я знала, что мы платим за аренду, но не знала сколько; я понятия не имела, легко ли Мамочке даются эти выплаты и с какой частотой их нужно осуществлять. И уж о чем я точно не догадывалась, так это о последствиях в случае неуплаты. Еще ребенком я однажды видела, как приставы выносят мебель из другого, тоже принадлежащего Стоуксам дома, но считала, что такая кара может постичь только людей ленивых, но уж никак не злополучных.
Сколько я себя помню, деньгами у нас всегда ведала Мамочка. Если мне что-то требовалось, я спрашивала у нее, и, если она могла, она мне покупала, а если нет, я больше не просила. Любую заработанную мелочь я тут же отдавала ей. Дело не в том, что я не знала цену деньгам — попробовал бы кто-нибудь меня надурить, — мне просто никогда не приходилось ими распоряжаться и даже задумываться на эту тему. Не приходилось. А теперь придется.
Я понимала, что нужно будет разузнать у Мамочки, как наши дела, но вряд ли можно было придумать более неподходящий момент для таких расспросов. Ее бы эта новость сразила наповал. Тогда я приняла решение уладить все сама. На полке стояла жестяная банка из-под чая, с изображением коронации. Достав ее, я высыпала на стол четыре десятишиллинговые бумажки и несколько монет. Прикинула, что можно заработать, если набрать побольше стирки и шитья. Снова взглянула на цифру, указанную в письме, но, сколько ни гляди, а меньше она не становилась.
Потом я перерыла дом, выискивая ценности, которые можно было бы продать, если совсем приспичит. Конечно, пришлось бы спрашивать у Мамочки, но их было так мало, что не о чем говорить. Пара военных сувениров. Мамочкина золотая цепочка с кулоном и серебряная табакерка. Просто кот наплакал. Но даже за эти крохи что-то можно было выручить в ломбарде Маркет-Харборо.
На сердце стало чуточку светлее, когда в дверь постучалась маленькая миленькая мышка с пронзительными карими глазами и попросила испечь ей торт. Звали эту мышку Эмили Протероу, хотя в ближайшем будущем она планировала переименоваться в Эмили Кросс, и торт ей требовался свадебный.
Еще одним талантом Мамочки являлась выпечка, а в выпекании свадебных тортов ей просто не было равных. Естественно, все женщины в округе, хоть мало-мальски заслуживающие этого названия, могли состряпать торт. Но тут-то был не просто торт, а свадебный торт. Торт всей жизни. И когда заходила речь о торте свадебном, все говорили: главное — что ты в него положишь. А не у всех есть то, что в него кладется.
Вот и считалось, что торт Мамочки Каллен приносит молодоженам удачу на долгом извилистом пути семейной жизни. Что он поддерживает семью во времена лишений, подкармливает во времена невзгод. В те годы в округе можно было насчитать не меньше сотни женщин, хранивших в банках, подальше от мышей и долгоносиков, завернутый в бумагу кусок свадебного торта, который они должны были располовинить и вшить в погребальные одежды того из супругов, кто уйдет первым. Все потому, что раньше люди сочетались браком не только на всю жизнь, но и на всю смерть.
Теперь это в прошлом, теперь уже никто так не живет.
И все же к правилам, распространяющимся на свадебный торт Мамочки Каллен, по-прежнему относились трепетно. Один корж оставляли до крещения первенца. На свадьбе каждому гостю преподносили по куску. Невесте и жениху — кусок. Всякому, кто даже гостем не являлся, а, скажем, прислуживал за столом или помогал одевать невесту, — кусок. Священнику кусок, даже если он был зануда, как все они. И еще один кусок откладывали, чтобы разделить потом. На долгую дорогу в темноту. Потому что, как говорилось в Мамочкином своде правил, коль есть любовь, ее нужно длить до бесконечности.
Мамочка обожала свадебные торты. За труд ей, разумеется, платили, но она отдавала сторицей, вкладывая в свои шедевры всю душу. Вот почему, увидев на пороге Эмили, я капельку струхнула от перспективы соревнования с Мамочкой, но все-таки сказала, что Мамочка на днях вернется и мы, конечно, испечем для Эмили торт.
— Просто… Мамочка Каллен пекла торт для моей мамки на ее свадьбу, и вот же они прожили счастливо и относились друг к другу хорошо, даже в тяжелые времена, — объясняла Эмили, сидя у камина и ломая от стеснения руки. — Я так расстроилась, услышав, что Мамочка в больнице, думаю: ну вот, торта не будет… Я эгоистка! Я знаю! Теперь ты будешь думать, что я ужасная. А потом вспомнила про тебя и решила: наверняка уж Мамочка научила ее кой-чему, если не всему, что знала, и вот…
Она ужасно нервничала. Я положила ей руку на запястье, чтобы остановить словесный поток.
— Послушай, Эмили, я испеку тебе мой самый лучший торт, — пообещала я. Не уточнив, что он же будет первым.
Я видела довольно часто, как Мамочка готовит свадебные торты. И если б дело было только в рецептуре, креме, тесте и времени выпекания, я бы ни секунды не волновалась. Но Мамочка меня и близко к ним не подпускала. Вдруг торт не выйдет, ведь так же криво может пойти и брак. Огромная ответственность! А вера? Что, если в тесто попадут мои сомнения? Вдруг доля скепсиса придаст торту излишнюю воздушность или, напротив, плотность?