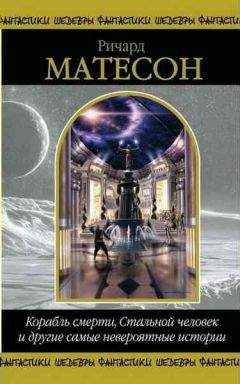Карина Дёмина - Владетель Ниффльхейма
Макс Тронин был влюблен в скрипку. Отец его этой любви не разделял и всячески старался приобщить сына к миру спорта, мать же относилась с полнейшим равнодушием. Устав от просьб, она записала-таки Макса в музыкальную школу по классу гитары.
А он был влюблен в скрипку.
Скрипка являлась ему во снах, позволяя брать себя в руки, и Макс с восторгом, с трепетом прикасался к деревянному ее телу, вдыхал ароматы лака и канифоли, мечтая о том, что однажды…
Время шло. Руки костенели. И пальцы, никогда не отличавшиеся гибкостью, привыкали к гитаре. А сны приходили все реже. Макс почти отпустил мечту, и отпустил бы, если бы не оказался на набережной. Безымянная городская речушка, мелководная и унылая, выбросила скрипку прямо Максу под ноги и убралась, словно не желая иметь с ним ничего общего.
Макс оглянулся: люди шли мимо, торопились, не замечая ни его, ни скрипки. А та ждала прикосновенья. Она была прекрасна той сдержанной красотой, которая отличает истинное благородство. Черный корпус, исполненный из неизвестного материала — углепластик? — имел мягкие обводы. Длинную же шею грифа венчала резная драконья голова.
Макс поднял скрипку.
Примерил.
Примерился.
Первое прикосновение к струнам обожгло пальцы, но боль была приемлемой ценой. И Макс заиграл. Люди по-прежнему шли мимо, не замечая худощавого парня со скрипкой. А та пела о любви и разлуке, о встрече и надежде, о вечности, которая рядом, стоит лишь протянуть руку.
Стоит лишь шагнуть.
В зеленую мягкую воду: она тоже устала от одиночества…
Замарина Татьяна Ивановна, практикующий психолог, поймала себя на мысли, что ей нравится слушать клиента. Прежде этот человечек с его мелочными проблемами вызывал у нее лишь глухое раздражение, но теперь все изменилось.
И Татьяна Ивановна потянулась к нему. Тело ее вдруг стало легким, невесомым, и Татьяна Ивановна едва не рассмеялась вслух… глупые-глупые люди.
Зачем они борются со своими кошмарами?
Кошмары вкусны.
— Значит, — она заглянула в глаза клиента, — вы думаете, что ваша жена — сука?
Он робко кивнул и застыл, не смея отвести взгляд.
— Расскажите об этом поподробней.
Тамара Ивановна облизала губы:
— Как можно подробней…
Дёньку загнали-таки в тупик. И добежав до стены — слишком высокой стены, чтобы можно было перебраться — он остановился. Дёнька уперся в эту самую стену лбом и замер. Он дышал, втягивая кислый воздух, понимая, что надышаться не выйдет.
Подходили. Не торопясь, зная, что деваться Дёньке некуда. Он поглядел вверх, на окна, которые светились желтым, и закричал:
— Помогите!
Кирпичные стены убили крик. Зато голос Кривого тронуть не посмели.
— Ну и чё? Допрыгался?
Кривой ухмылялся. Почерневшие зубы его сливались с тенью, и казалось, что зубов у Кривого вовсе нет, а только расщелина между пухлыми губами.
— Пусти, — сказал Дёнька.
Кривой заржал, и остальные, пришедшие за ним, подхватили смех.
— Отсосешь — пущу.
Дёнькины пальцы нащупали камень. И страх исчез.
— Пошел ты на… пидор, — Дёнька ударил первым, метя кулаком и камнем в лицо Кривому. И хрустнули кости, что-то острое царапнуло пальцы, а Кривой завизжал.
Но потом, еще крича, ударил. Другие тоже ударили, сразу, стаей. Толкая и пиная. Стремясь опрокинуть на землю, но Дёнька держался столько, сколько смог. И бил. Иногда попадал.
Потом он все-таки рухнул на землю…
Берцы стаи ломали кости, вгоняя их осколки в тело. На губах Дёнькиных закипала кровь. И он подумал, что сейчас умрет. А потом огромная тень заслонила черничное небо с желтым пятном луны. У тени были орлиные крылья и острые когти, которые вырвали Дёньку из тела и потащили вверх.
Шелестели огромные крылья. Ветер бил в лицо, и Дёнька ловил его ртом, захлебываясь от смеха.
Пиво у Егора Федоровича Фильдера прокисло само, безотносительно технологии. Конечно, с технологией он обращался весьма вольно, и порой результаты вынужденных — а что делать, не сэкономив, не заработаешь — экспериментов были печальны, но киснуть пиво не кисло.
А тут взяло и сразу…
Егор Федорович выслушивал заискивающий лепет главного технолога, и думал о том, удасться ли пристроить некондицию. Тогда-то он и услышал тихий глумливый смех, который доносился будто бы из бочки. Конечно же, в бочке никого не оказалось, но Егор Федорович перекрестился на всякий случай и пообещал себе заехать в церковь.
Обещание не помогло. Смех сопровождал его целый день, а день подкидывал одну неприятность за другой. То в оливке косточка попалась, и прямо на зуб, а зуб возьми и сломайся. То у новенького джипа вдруг колесо слетело, и Егор Федорович, можно сказать, чудом жив остался. То пропали дорогущие трусы из французского кружева, выписанные для Машеньки, чтобы выплыть из кармана прямо в женины руки… и всякий раз невидимый весельчак прямо-таки заходился от хохота.
Особенно, когда женушка теми самыми трусами, французскими, розовыми, с лебединым пухом, в лицо тыкала да разводом грозилась…
После исчезновения директрисы, о которой, как выяснилось, никто ничего толком не знал, детский дом был расформирован. Воспитанников его передали в другие учреждения, что в общем-то было закономерно, и единственная заминка возникла с младенцем, чье происхождение было туманно, а потому вряд ли законно. Но вскоре разбирательство прекратилось, а младенец и вовсе затерялся в бюрократических бумажных лабиринтах. Виктор Федорович и его супруга приложили к тому немало усилий и денег.
Впрочем, по их мнению дело того стоило.
Виктор Федорович, впервые взяв в руки младенца, был удивлен той силой, с которой малыш вцепился в его палец. И упрямством, с которым он палец грыз, перетирая голыми деснами.
— Надо же, — сказал Виктор Федорович. — Настоящий волчонок…
— Маугли, — поддакнула супруга, смахивая слезинку.
Но назвали ребенка Денисом.
Юленька полюбила кормить птиц.
Голубей, воробьев, синиц, галок, ворон и грачей с глянцевыми перьями и мощными клювами. Соколов и ястребов, которые слетались на синиц и воробьев, но опасались связываться с грачами.
Птицы полюбили Юленьку.
Они приближались к ней без страха, хватая с ладони зерно, сало или мясные шарики. И мама лишь отворачивалась, прикрывая рот ладонью, как будто боялась сказать что-то лишнее. Она вообще стала совсем другой, и Юленька не могла понять — огорчает ее данный факт или радует.
Поэтому не огорчалась и не радовалась, но просто кормила птиц.
В больнице.
Дома.