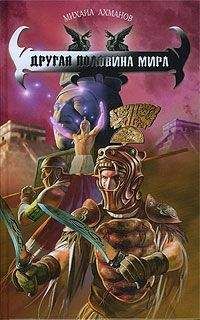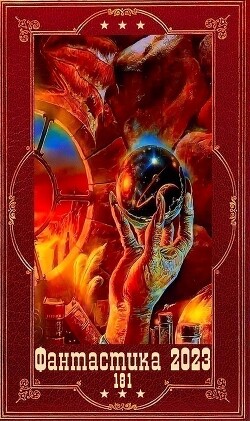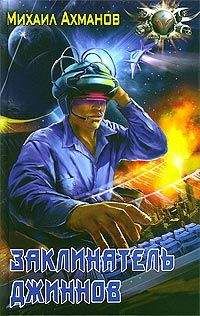Другая половина мира - Ахманов Михаил Сергеевич
Секира вновь поднялась, и меч, змеей проскользнув под нею, полоснул кожаный ремень лоуранца. Ни крови, ни царапины; но пояс вместе с кинжалом очутились в траве. Ут замер, не понимая, что произошло, сузив глаза и сверля противника взглядом; грудь его вздымалась, на лбу выступила испарина, но волчья усмешка все еще блуждала по губам. Люди его приумолкли, зато прочие зрители, кроме настороженных одиссарцев, веселились вовсю: Дженнак слышал жуткое улюлюканье Хомды, крики островитян, раскатистый хохот уриесцев и рык Умбера — тот советовал срезать с Ута набедренник и подстрогать между ног. Видно, от такого поношения лоуранский князь обрел новые силы и ринулся вперед разъяренным кабаном.
Дженнак отпрыгнул, вспоминая, как бился совсем недавно — и так давно! — у другого моря, на другом берегу, где пластались под ногами не камни с травой, а золотые пески Ринкаса. Бился с достойным Эйчидом, пришельцем из Тайонела; бился, не испытывая к нему вражды; бился за жизнь свою, за сетанну- и победил! Еще вставал перед ним фиратский холм, маячило надменное лицо тассита, его блестящий меч и меркнущие глаза, тело на залитом кровью валу… Пожалуй, светлорожденный Оротана из Дома Мейтассы оказался послабей Эйчида! Но и с ним Угу было бы не совладать. Нет, не совладать! — подумал с усмешкой Дженнак. И никто из этой троицы не совладал бы с ним самим — что, собственно, и получилось… Ну, так чему тут удивляться? Ведь у них не было наставника-сеннамита!
Тайонельский клинок, Эйчидово наследство, с глухим стуком скрестился с топорищем, ужалил его, перерубил, и лезвие лоуранской секиры вознеслось к небесам. «Айят!» — разом выкрикнули одиссарцы, приветствуя успех вождя, и слитный их рев перекрыл вопли иберов и голоса островитян. «Айят!» — и отсеченный от топорища штырь воткнулся в землю; «Айят!» — и древко в руках Ута распалось напополам; «Айят! Айят!» — обломки дерева брызнули ему в лицо; «Айят! Айят» — кончик меча срезал завязки на сандалиях лоуранца.
— Хайя! — выкрикнул Дженнак и бросил меч в ножны. Его противник, ошеломленный стремительностью нападения, сжимал в кулаке все, что осталось от секиры, — жалкий обломок в треть локтя длиной. Синие глаза Ута потемнели, брови сдвинулись, потом яростная гримаса исказила лицо; взревев, он швырнул бесполезную палку в Дженнака и ринулся к нему со скрюченными пальцами, оскалившись, как хищный зверь. Черты его приобрели разительное сходство с волчьей мордой, словно истинное, жуткое, животное начало вдруг прорвалось в нем; казалось, ему не нужно оружие, ни медное, каменное, ни стальное, а хватит лишь собственных зубов и когтей.
Дженнак ударил его под ухом сомкнутыми пальцами, точно колол палочки фасита в сеннамитской игре, и тут же нанес второй удар, коленом в живот. Лоуранец согнулся, хватая воздух распяленным ртом, и тут же был сбит на землю. Мгновение, и Дженнак очутился у него на спине, ухватил за косу, скользкую от пота, и дернул голову противника назад; другая его ладонь давила побежденного между лопаток. Ут захрипел, выкатил глаза, ставшие вдруг невероятно огромными; казалось, он что-то желает сказать, но руки Дженнака сгибали его, колени прижимали к траве, и лишь хриплый выдох вырвался из глотки лоуранца. Он был обессилен и побежден, он уступал — так, как мягкая медь уступает напору железа; и перед взором его лежали сейчас не берега Лоурана, а тропы, ведущие в Чак Мооль.
Тело Дженнака откинулось; теперь пальцы его были переплетены у подбородка врага, колени давили ему на крестец. Еще немного…
— Эй, балам! — раздался оклик Грхаба. — Не торопись!
Не ломай слишком быстро! Легкая смерть не для…
Он смолк и тут же метнулся вперед, вытянув посох и прикрывая собой Дженнака; потом оружие было отброшено в сторону, а сам Грхаб сделал быстрое движение руками, будто пытаясь словить мотылька. И, через долю вздоха, мотылек этот уже бился в его объятиях — алый мотылек в трепещущих легких одеждах, с серебряным обручем на голове, в накидке, что развевалась огромным пестрым крылом.
Чолла!
Дженнак вздрогнул. Чолла! Пришла! Желает взглянуть на гибель насильника? На его позорную смерть, не подобающую воину? Встать поближе, всмотреться в его меркнущие глаза, проклясть его именем Мейтассы? Выкрикнуть напоследок оскорбление?
Но нет; голос ее был спокоен и звучал, как всегда, мелодично.
— Отпусти его, наследник Удела Одисса. Он — мой!
Хватка Дженнака ослабла, и лоуранец с всхлипом втянул воздух.
— Твой? Что это значит, тари?
— Это значит, что жизнь его принадлежит мне! И жизни всех его людей, всех воинов, женщин и рабов.
— Не всех. — Дженнак отпустил Ута и поднялся. — Не всех, тари! Он нанес обиду тебе, так что взыщи с него долг как хочешь: прирежь, сбрось со скалы или прикажи утопить в море. Но его люди убили Цина Очу и двадцать воинов, лучших бойцов Очага Гнева! И этот долг за мной! И я — клянусь Одиссом, Прародителем! — взыщу за их кровь! Сам!
— Хайя! — одобрительно рявкнули одиссарцы. Их копья отливали серебром, и глядели они на лоуранцев так, как смотрит волк на кролика. Чолла будто бы заколебалась; взгляд ее застыл на лице Ута, корчившегося в траве, и Дженнак подумал, что сейчас, по женской слабости, она велит прикончить его быстро и без мучений. Что касается иберских воинов, стоявших одной ногой на пороге Великой Пустоты, то они взирали на Чоллу с благоговением и какой-то странной надеждой, будто она и вправду была посланцем Мирзах и могла даровать или отнять у них жизнь.
— Люди Ута принадлежат мне, — повторила Чолла, покусывая пухлую нижнюю губу. — И Цина Очу был моим человеком. В том сражении, когда меня пленили, погибла сотня воинов из Лоурана… Достаточная плата за одиссарскую кровь? Как ты считаешь, мой вождь?
Она хочет спасти их, промелькнуло у Дженнака в голове; спасти Ута и его людей. Но почему? Явить милосердие? Это выглядело странным; Чолла была расчетлива, высокомерна и не отличалась добротой. Разумеется, она чтила Шестерых, а более всех — Арсолана, но Шестеро не призывали прощать врагов. В Книге Повседневного сказано: пощади врага, если уверен, что он станет твоим другом; а не уверен — убей! Впрочем, вряд ли Ут и его дикое племя успели стать друзьями Чоллы Чантар, Дочери Солнца; подданными — другое дело! Но мысль сия показалась Дженнаку нелепой. Земли и люди нуждаются в правителе, а кто сумел бы править этим варварским народом с другого берега Бескрайних Вод?
— Так что же, вождь? Ты отдаешь их мне? — спросила Чолла, и он вдруг понял, что вопросы эти заданы на иберском. Речь ее звучала чисто и без акцента; видимо, практика оказалась основательной.
Он ответил тоже на иберском:
— Цина Очу в самом деле был твоим человеком, но находился он под моей защитой. Он был мудрым жрецом, он возносил Песнопения, и жизнь его дорого стоит. Так что погибшие — та сотня, о которой ты упомянула, — будут выкупом за кровь Цина Очу. А за своих людей я возьму
иную цену. Я не стану убивать всех и жечь хольт, но двадцать лучших бойцов Ута скрестят оружие с двадцатью моими воинами. Остальные пусть смотрят! И складывают погребальные костры! — Дженнак выпрямился и властно вскинул голову. — Хайя! Я сказал!
Чолла кивнула с надменным равнодушием.
— Пусть будет так, и пусть помогут им боги. Но нам, мой господин, нужно поговорить. Когда и где?
— Где? — переспросил Дженнак, принимая от Грхаба свою тунику. — Разве ты не пойдешь сейчас в свой хоган, тари? На корабль?
Девушка задумчиво взглянула на Ута; тот уже отдышался, сел и теперь с мрачным видом следил за беседой.
— Нет, — сказала она, — еще нет. У меня есть чем заняться на берегу.
Они встретились вечером, когда отпылали погребальные костры иберов, когда пики западных гор пронзили солнечный диск и на небе зажглись первые звезды. У подножия холма был разбит шатер на двенадцати шестах, крытый бычьими кожами; землю под ним застелили циновками из тростника, на них бросили плетенные из перьев ковры, поставили треножники со свечами. Дженнак, по одиссарскому обычаю, устроился на пятках, подложив под колени жесткие подушки; для Чоллы принесли с корабля, из ее хогана, сиденье.