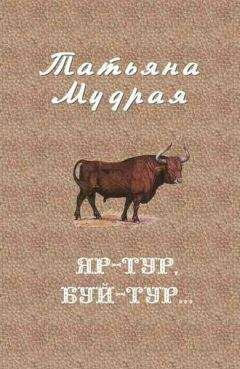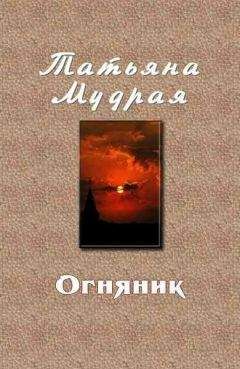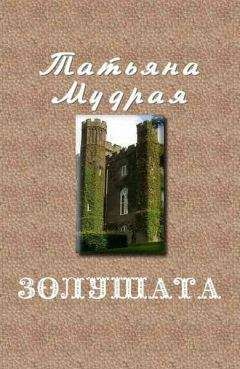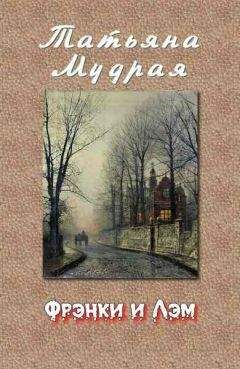Татьяна Мудрая - Беловежский дуб
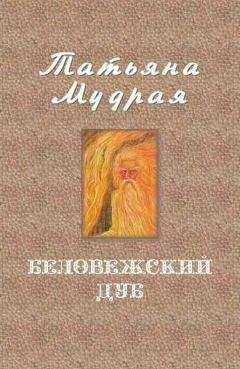
Обзор книги Татьяна Мудрая - Беловежский дуб
Тациана Мудрая
Беловежский дуб
Июль 1863 года был дождливым. Эти дожди превратили дорогу в подобие знаменитых полесских болот, что простирались ныне по всей здешней земле, захватывали леса и подступали едва ли не к самой пуще, но старый рыдван еще кое-как удерживался на раскисших вдребезину колеях. Только раненый, которого немилосердно трясло на рессорах, то и дело поправлял очочки, фатальным образом падающие с носа, или слегка сжимал левой рукой правое плечо, чтобы уберечь его от столкновений либо со стенкой, либо с молоденькой и хрупкой сиделкой. Обложиться подушками или хотя бы улечься поудобней и вытянуть ноги в присутствии дамы казалось ему непристойным.
— Ничего, пане Ромуальд, — приговаривала она при каждом особо сильном толчке, пытаясь хоть как-то придержать своего подопечного. — Едем не первый день, до границы уж немного осталось.
— Зовите меня лучше кузеном, пани Эльжбета, — сказал он, машинально прихорашивая роскошные чёрные усы. — Надо всё время репетировать, а то невзначай у самой цели проговоритесь, кто я есть на самом деле.
— Да кому тут подслушивать? Вон Апонас вам подтвердит, что тут одни жабалаки нашу речь понимают, а уж они русским не выдадут.
Апонас Телещук[1] был их пожилой кучер, на морщинистом лице которого время как бы отгравировало страдания и муки трёх мужицких поколений, сменивших друг друга на его памяти. Невозмутимый, немногословный и верный — именно потому и взяли с собой именно его, а не кого-нибудь помоложе и лучше умеющего управляться с парой пегих «лесных» коников, попавших в запряжку, кажется, и вовсе по недоразумению. Сфинкс, который хранит загадку многовекового прошлого, тяготеющего над настоящим и опрокинутого в будущее, подумала про него Эльжбета как бы чужими словами, куда более взрослыми, чем она сама.
— Жабалаки? — переспросил «кузен».
— Местные царевны-лягушки, если этот образ вам ближе, — улыбнулась она. — Только до превращения: оттого с виду они не очень-то пригожи.
— Как вся эта земля.
— Как вся моя земля, — акцент на личном местоимении был совсем незначительным. Мелкий дождь барабанил по крыше экипажа, стирая слова, небесная хмарь прятала выражение глаз.
— Простите, пани. Это на мне сказались неудачи.
«Я всегда мечтал о независимости своей родины. Освобождение Польши от господства России — вот истинное благо нашей страны. Но я никому не давал совета восставать. Я видел все трудности борьбы без армии и вооружения с государством, известным своей военной мощью. Но, видя невозможность отступления и обреченность восставших, согласился с их просьбой, так как счел, что поляк обязан не щадить себя, когда другие жертвуют всем», — подумал он, но говорить вслух не стал. Ни к чему впадать в пафос перед одной из тех женщин, которые самоотверженно помогали его людям, — доставали провиант, мотали бинты, ухаживали за ранеными и принимали в свои дома опасных гостей. И вот теперь лучшая из них везёт его, раненого, больного лихорадкой, к польской границе.[2]
«А уж войско у меня было — если вдуматься, сплошная издёвка над профессиональным военным-„севастопольцем“! Мелкая шляхта, бывшие чиновники, помещичьи служащие и крестьяне. Куда меньше крестьян, знающих местность, чем было нужно. И все — вооружены жалкими охотничьими ружьями, пистолями и копьями из крестьянских кос, прямо как в Тридцатилетнюю Войну. Нас и звали почти так же: косинеры. Немудрено, что почти все бои с царскими войсками мы проиграли. Оборванные, голодные, отступали мы по лесам и болотам на Пинщину, а по нашим пятам шли казаки. До деревни Колодное, где всему пришёл конец».
— Кончено дело, пане и пани! — донеслось с облучка одновременно с его мыслями и жёстким ударом в днище кареты. — В колее застряли. Теперь, если Вазила конский не сподобит, так и не выберемся. Вот что: вы извольте из кареты выйти, чтоб ещё глубже не всосало, а я попробую коней взбодрить. Только пускай отдохнут маленько.
— Ох, там же сплошная морось, — с тревогой проговорила пани Эльжбета. — А вы больны.
— Ничего, — ответил Апонас добродушно. — Не льёт, а только сеется. Накиньте вон белый абрусец на головы, так и Чёрная Панна по ваши души не явится.
«Абрусец» — то была огромная скатерть дорогого камчатного полотна — можно сказать, единственное, что уцелело от невестина приданого, которое муж промотал до последней нитки. Хотя нитки тоже ушли — на корпию раненым, усмехнулась про себя Эльжбета. Хорошо мы в дорогу снарядились, однако.
А Апонас продолжил:
— Счастье ещё, что мы уже в пущу заехали. Видите неподалёку дуб? Под ним укроетесь. Красавец. Хозяин. В грозу и то молнии стороной обходят.
Хозяин, однако, стоял в широкой луже по самые корни, а башмачки пани отличались весьма тонкой, если не сказать — истончившейся от старости подошвой. Пока она медлила, спутник бережно подхватил ее и, слегка поморщившись, перенёс на сухой островок близ корней.
— Пане Ромуальд! — задохнувшись от сладкого возмущения, сказала она, едва утвердившись на ногах. — Как можно… С вашей-то рукой.
— Я её нисколько не разбередил, — смирно ответил тот. — Опора на здоровые части тела. В переноске раненых у меня опыт не меньше вашего, милая пани.
Оба рассмеялись.
— О, через сию вековечную крону и в самом деле ничто не пробьётся, — воскликнул он тем временем. — Давайте наш белый парус под собой в ширину расстелем.
— Лучше потом, — отозвалась она. — Ноги от сидения затекли, хоть распрямить их немного. А сама вещь дорогая, приметная — может быть, пригодится для лучшего. Постоим пока, ладно?
Тем временем руки ее почти незаметно для Ромуальда поддерживали его за спину, проверяя, не сползла ли повязка.
— Вы такая хрупкая, а вам достаётся, — проговорил он с жалостью.
— Что вы, к такому очень легко привыкнуть. Я ведь по натуре, а не только по нужде любительница приключений. Не раз меня и моих подруг застигали дорогой звёздные или пасмурные ночи, не раз в синюю предрассветную пору наши возы и повозки проезжали мимо какого-нибудь низенького дома, перед порогом которого рдели на грядках яркие цветы и из которого к нам неслись знакомые голоса, звавшие нас задержаться, отдохнуть. Это было так хорошо, так весело — поприветствовать их и ехать дальше. А какие бывали чудные восходы солнца, какие разгорались на небе розовые зори, когда мы, невыспавшиеся после ночи, проведенной в бдениях, пили из глиняных кружек пенистое молоко, пили возле грядок с пышными настурциями и пионами.
— Вы умеете рассказывать, пани. Стоило бы такое записать.