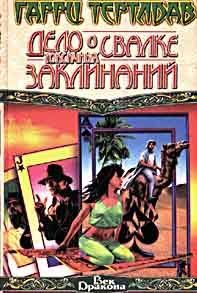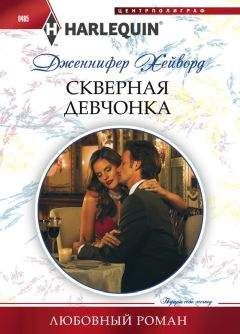Геннадий Прашкевич - Пять костров ромбом
Досет удовлетворенно кивнул.
— Дуайт! Разверни туземцу голову, пусть он смотрит на нас! Вот так!.. Послушай меня, туземец. Я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечать на них. Если не можешь шевелить губами, просто кивай. И будь внимателен!.. Три дня назад ты был в лесах Абу, там, где либертозо ожидали самолет с оружием. Морские пехотинцы наткнулись на твою группу, в перестрелке ты был ранен. Кто еще был с тобой в лесу?
Кайо пошатнулся. Неправильно истолковав его движение, Дуайт грубо ткнул журналиста под ребро:
— Смотри на майора, скот!
— Будь внимателен, туземец! — повторил Досет. — Раненый, ты все же сумел уйти от морских пехотинцев. Добрался до Ниданго. Подлость толкнула тебя войти в дом полноценной гражданки, с которой ты когда-то был знаком. Подлость заставила тебя спровоцировать гражданку на помощь, оказание которой таким, как ты, категорически запрещено… Эта женщина сказала тебе, когда придет следующий самолет?
Губы Кайо, наконец, раздвинулись. Он усмехнулся.
Этой удавшейся ему усмешке он отдал очень много сил. Так много, что, наверное, пожалел об этом, ибо Дуайт одним взмахом стер усмешку с его сразу лопнувших, закровоточивших губ. Только ненависть удержала журналиста на ногах.
— Дуайт, — негромко спросил Досет. — Как по-настоящему допрашивают без всех тех крайностей, на которые падки сотрудники нелояльных газет?
— Возьмите полевой телефон, прикрепите провода, куда следует, и… позвоните!
— И что?
— Позвоните… и вам ответят!
— Законны ли такие методы допроса? — усмехнулся Досет.
— Они незаконны, — ответил Дуайт. — Но они не вставляют следов.
— Тогда начните… — Досет секунду помедлил. — С туземца.
Я спокойна — сказала себе Анхела. Я вижу то, чего в принципе не должны видеть люди, но я спокойна, ибо я нашла спрайс.
Она перевела взгляд на полупрозрачный браслет, лежавший на столе у самого локтя майора, и у нее защемило сердце.
Но Анхела пересилила слабость, рожденную радостью, и заставила себя смотреть только на Кайо. Сбитый с ног и брошенный на “Лору”, он все еще пытался порвать металлические зажимы, жадно сжавшие его руки и щиколотки. Бессмысленная борьба!.. Но таков был Кайо — он всегда боролся до конца. Он всегда был уверен, что борьба не бывает бессмысленной!
У нас, подумала Анхела, не отрывая глаз от поверженного на “Лору” либертозо, такие люди идут в Космос. Только в Космосе возможна полная отдача всех сил…
Три дня назад, — подумала Анхела, следя за каждым движением журналиста, — Кайо уже был обессилен, измучен, доведен до грани, по… он еще надеялся! А сейчас надежды в нем нет. Сейчас Кайо живет не надеждой. Сейчас он живет только ненавистью.
Три дня назад, вспомнила она, черная грозовая, туча заволокла все небо. Мощные молнии сухой грозы били куда-то в леса Абу. Страшная, черная сухая гроза. Она походила на грозу, погубившую опыт Риала… И глядя на мгновенно ломающиеся электрические бичи, на тени, угрюмо и стремительно прыгающие по саду, Анхела чувствовала — не только гроза, какой бы она ни была страшной, заставляла сжиматься ее сердце. В саду кто-то был! Она еще не видела журналиста, но его боль и его надежда уже жили в ней. Ведь именно к человеческой боли Анхела так и не смогла привыкнуть в Ниданго…
Глядя из окна, Анхела видела, как журналист упал, споткнувшись. Но она не встала, не окликнула Кайо. Она знала — если добрался до виллы, он найдет силы встать сам.
И Кайо поднялся и снизу посмотрел на нее.
— Сможешь влезть в окно? — спросила Анхела, радуясь тому, что Пито Перес, ее телохранитель, уехал в город за продуктами.
Кайо кивнул. Перевалился через подоконник, испачкал кровью косяк, но не застонал. Анхела поняла: он еще не решил, как ему следует вести себя с нею… Это было больно. Но она понимала Кайо — его преследовали, ему нелегко было решиться на подобный визит, он представлял себе, чем чреваты последствия его поступка.
Рана в плече, внутреннее кровоизлияние… Анхела сразу поняла — Кайо плох. Срочное переливание крови, тоники, тишина — вот что ему было необходимо. Но даже она ничего не могла ему предложить. Было странно, когда Кайо, пересилив боль и слабость, улыбнулся, указывая на портрет, написанный Этушем:
— Я никогда не видел этой работы. — И помрачнел: — Судьба художника в Тании незавидна.
— Этот портрет — шутка, — негромко пояснила Анхела. — Этуш написал его, поспорив с доктором Шмайзом.
— Доктор Шмайз — достойный человек, — ответил Кайо. За его словами читались и грусть, и давняя ревность, но неожиданный комплимент был чист, потому что посвящался ей, Анхеле Аус, женщине, которую он, Кайо, давно и безнадежно любил.
— Подойди, я остановлю кровь.
Она постаралась произнести это негромко, ненавязчиво. Она знала вспыльчивость Кайо. Но он и впрямь был плох — послушно подошел; на Анхелу пахнуло болезненным жаром.
— Ты останешься у меня, — сказала Анхела и положила ладонь на простреленное кровоточащее плечо журналиста. — Ты проведешь день у меня. — Кровь под ее ладонью быстро сворачивалась. — Ночью, если торопишься, можешь уйти.
— Ночь… — пробормотал журналист. — В этой стране любят ночь…
— Смотри на ночь, как на некое начало отсчета, — возразила Анхела. — В древнем Шумере новые сутки всегда начинались с ночи.
Кайо не понял ее:
— Я не должен был приходить, прости… Но мне надо продержаться хотя бы сутки. Потом я не буду тебе мешать.
Анхела, читала мысли Кайо — он думал о ней. Как всегда, видя ее, он сходил с ума. Но его мысли были чистыми. Он, Кайо, испытывал радость:
— У тебя ладонь, как лист сьяно.
Сьяно… Либертозо сделали лист сьяно символическим знаком партии. Корни съяно уходят глубоко в почву. Когда степи и леса Тании горят, сьяно тоже сгорает. Но после первого же дождя мощные корни дают тысячи новых побегов. Сьяно неуничтожим!
Если все либертозо похожи на Кайо, подумала Анхела, будущее за ними…
Глядя на журналиста, привязанного к “Лоре”, Анхела вспомнила пилота Кнайба. Он был груб, мощен. Он плевал и на либертозо, и на морских пехотинцев. В этом мире, считал Кнайб, каждый борется за себя. Но внимание столь влиятельной женщины, несомненно, льстило Кнайбу. Он по-новому ощущал себя, он начинал чувствовать свою значительность.