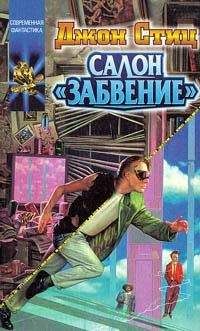Юрий Бурносов - Революция. Книга 1. Японский городовой
— Тоже мне, дворец, — буркнул Коленька. — У нас таких дворцов в Парголове… Любую дачу возьмите, еще и не из самых богатых.
— Ну вот, — засмеялся Гумилев, — а ты говоришь — зачем взятки. Может, человек хочет новый дворец отстроить.
Абиссинская бюрократия отличалась от российской в лучшую сторону. Ожидать пришлось не более минуты, после чего челобитчиков провели в большую комнату, устланную коврами, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла, в котором сидел дадьязмач Тафари.
Дадьязмач поднялся навстречу вошедшим и пожал им руки. Он был одет, как и все абиссинцы, в шамму — большой четырехугольный кусок белой бумажной материи, концы которого были закинуты за плечи. Гумилев знал, что в присутствии высших лиц простые абиссинцы не имеют права надевать шаммы таким образом, зато у себя дома так их носили абсолютно все.
По точеному лицу дадьязмача, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим полным достоинства газельим глазам, по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца. И неудивительно: он был сын раса Маконнына, двоюродного брата и друга императора Менелика. Таким образом, дадьязмач вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской.
На вид генерал-губернатору было лет восемнадцать-двадцать. Еще в Дире-Дауа Гумилев узнал, что Тафари только что перенес тяжелейшее воспаление легких — болезнь, от которой в Абиссинии обычно умирали, и сейчас он выглядел слабым и усталым, однако улыбался очень приветливо.
К тому же к своим двадцати годам он успел пройти хорошую школу. Дадьязмачем Тафари стал в четырнадцать лет, получив под свое начало округ Тара-Мулета; через год, после смерти отца, император Менелик доверил ему более крупную провинцию Селаге, а затем Тафари стал главой крупнейшей эфиопской провинции Харар, которой при жизни управлял его отец рас Маконнын.
Тафари довольно прилично говорил по-французски, но пользовался услугами своего переводчика — видимо, для солидности. На просьбу о пропуске, несмотря на полученный подарок, он ответил, что без приказания из Аддис-Абебы ничего сделать не может. Коленька тут же ехидно посмотрел на Гумилева.
— Коленька, выйди подышать воздухом, я хотел бы поговорить с дадьязмачем приватно, — мстительно сказал Гумилев на русском, извинившись предварительно по-французски перед Тафари. Коленька раскланялся и вышел, обиженный.
— Вы напрасно отослали своего юного спутника, — мягко сказал Тафари. — Без приказания из Аддис-Абебы вы не получите пропуск, что бы ни пообещали мне. Я знаю, что мнение о жадности и продажности африканцев всегда бытовало среди европейцев, но, как видите, не все таковы.
— Я вовсе не об этом хотел поговорить с вами, — возразил Гумилев. — Мне нужен ваш совет, потому что я не знаю страны Галла, куда мы идем. К тому же мой знакомый сказал, что там водятся демоны. Надеюсь, вы развеете наши страхи.
Тафари поднял брови.
— Демоны? Кто же это вам сказал?
Гумилев описал старика, упомянув о его таинственном подарке. Тафари задумался ненадолго, затем сказал:
— Нет, я не знаю такого человека по имени Мубарак, хотя знаю многих Мубараков. Возможно, это не его имя. Возможно, это и вовсе не человек, — здесь Гумилева слегка передернуло, но Тафари не заметил этого и продолжал:
— Но он по-своему прав. В стране Галла есть многое, что странно оку европейца. Ехать туда опасно, и это еще одна причина, по которой я не спешу выдать вам пропуск.
Тогда Гумилев пустил в ход тяжелую артиллерию, сказав:
— Послушайте, несколько лет назад я оказал некую услугу негусу негести, после чего он назвал меня своим сыном. Я мог бы обратиться к нему за помощью, но я попросту не считаю, что столь ничтожным делом нужно тревожить покой императора и отнимать его от важных государственных дел. Но, если вы не дадите мне пропуска, я вынужден буду…
— О, так вы и есть тот самый русский?! А я еще подумал, откуда мне знакомо ваше имя… Я слышал немного о тогдашних событиях, хотя о них обычно не принято говорить. Это меняет дело, но не настолько, чтобы я тотчас выдал вам пропуск. Порядок есть порядок, поэтому телеграфируйте в Аддис-Абебу, дождитесь ответа, и, клянусь, я не стану вам мешать. Даю слово.
— Хорошо, — согласился Гумилев, понимая, что молодой дадьязмач просто не по-африкански пунктуален.
— Надеюсь, эта задержка не помешает вам исполнить мою небольшую просьбу?
«Нет, — подумал Гумилев, — он такой же, как и все. Сейчас что-нибудь выклянчит».
— С удовольствием.
— Покажите мне это… эту вещь, если она сейчас с вами.
Гумилев на мгновение замер, поняв, чего хочет дадьязмач.
— Мой отец рассказывал мне, что встречал людей, обладавших разными амулетами и талисманами. У него самого были амулеты и талисманы, и они часто помогали ему в сражениях. Но он говорил, что есть талисманы и амулеты, которые сильнее всех, сделанных человеческими руками. Потому что они пришли из другого мира.
Гумилев молчал, прислушиваясь к скорпиону. Нет, тот молчал, ни единого движения, ни единой вибрации не исходило от маленькой металлической фигурки. Конечно же, она была при нем, как и всегда на протяжении последних лет. В нагрудном кармане, ровно на том же месте, где встретился с саблей Эйто Легессе и пулей Джоти Такле.
Соврать? Сказать, что он оставил скорпиона в России?
Но Гумилев решился.
— Вот, — сказал он, протягивая фигурку Тафари. Тот аккуратно, двумя длинными тонкими пальцами, достойными скрипача или пианиста, взял скорпиона и поднес к своим глазам газели. Долго смотрел, поворачивая так и этак, осторожно попробовал острие жала, тут же укололся и совершенно по-детски сунул палец в рот.
— Странная вещь, — сказал дадьязмач, возвращая скорпиона. — Я видел Ковчег Завета (Примечание автора: Ковчег Завета – библейский ковчег, в котором хранились десять заповедей. Считается величайшей святыней коптского христианства, и во всех церквях страны хранятся его копии. По легенде, оригинал находится в городе Аксум, однако доказать или опровергнуть это пока никто не смог) и прикасался к нему. Ощущения схожи — неживой предмет словно бы жив…
— Ковчег Завета?! Так он все же в Абиссинии?! В Аксуме, куда его перенес Байна-Легкем? В соборе Святейшей Девы Марии Сиона?!
Тафари Маконнын снисходительно улыбнулся Гумилеву, словно расшалившемуся ребенку.
— Не думаете же вы, что я, при всем уважении, открою эту великую тайну? Скажу лишь, что видеть Ковчег дозволяется очень немногим, а уж касаться его — только избранным. Но Ковчег — он… как бы лучше выразиться… простите, мой французский не так хорош, как хотелось бы… Ковчег, когда его касаешься, лучится благодатью. А ваш скорпион — совсем иное дело. Я не могу понять, что он пытается дать.