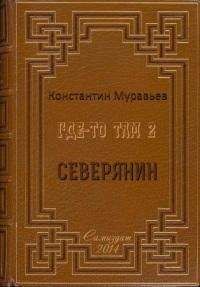Надежда Попова - Пастырь добрый
– Это было больше десяти лет назад, – напомнил Керн. – И они переменились с тех пор, и ты сам, и весь твой опыт уже наполовину выветрился из памяти.
– Кое-что не выветривается, Вальтер, – возразил Курт уверенно. – К прочему – ни у Дитриха, ни у Густава подобного опыта не было вовсе. И там, в той среде, в отличие от сообщества добрых горожан, мое знакомство с арестованным и стремление ему помочь «по старой дружбе» будут восприняты куда как более благосклонно; а это еще одна гиря на мою чашу весов при беседе с ними. У меня будет хоть что-то. Ланц и Райзе же – просто чужие. Никто.
– И по какому основанию ты предлагаешь мне открывать дело?
– Был praecedens[18], – с готовностью доложил Курт. – Два года назад, весной тысяча триста восемьдесят восьмого, наутро после выпускной пирушки некая девица обвинила студента Кёльнского университета в насилии. Студент, задержанный светскими властями, подал заявление в Друденхаус, утверждая, что был опоен либо же очарован, ибо никаких своих действий в связи с этим припомнить не может. Дело было одобрено к расследованию, дознание проводил следователь второго ранга Дитрих Ланц. Невиновность была доказана. Особенности дел схожи.
– Казуист, – с утомленным одобрением пробормотал Керн, вновь бросив взгляд в отчет. – Ну, что же, пусть так. Но тебе придется поспешить, ты ведь понимаешь это? Произошло не насилие, произошло убийство, причем такое, какового в Кёльне… не знаю; я – не припомню. Если дело затянется, Друденхаус начнет осаждать взбешенная семья, и… Сейчас тебя несколько поддержит в глазах горожан, буде они начнут возмущаться, именно упомянутое тобою прошлое твое расследование – времени прошло мало, его еще хорошо помнят, и мы, случись что, сможем попросту ткнуть их в него носом. Припомнить им случай, когда твои действия казались столь же ошибочными и подозрительными, но в результате… – Керн встряхнул головой, отмахнувшись. – Бог с ним, это уже не твоя забота, с агентами, если это будет необходимым, я побеседую сам. Но от души надеюсь, что до всегородских волнений не дойдет. А теперь по делу, коли уж так. Первые выводы есть? – поинтересовался обер-инквизитор, демонстративно приподняв последний лист и заглянув на оборот; Курт передернул плечами:
– Пока не успел…
Керн улыбнулся:
– Нет, все-таки, небо на землю еще не повалилось – на вопрос «где отчет?» Гессе отвечает «нету»… Рассказывай.
– Primo, – кивнув, начал Курт, – это ножны. Это было первостепенное, о чем я спросил у тех, кто арестовывал Финка. Нож, с которым его взяли, – острый, я бы сказал, что – бритвенно острый, однако ничего, во что его можно было бы упрятать, при нем не было. Ни ножен, ни хоть какого-то самодельного чехла. Отсюда возникает вопрос – как же он шел вот так, с открытым оружием, через городские ворота на глазах у стражи, да и через весь город?
– Первое возражение, – перебил его Керн. – Не шел ли он, прижав этот нож к боку девочки, с которой (от этой, самой главной улики, все равно не отвертеться) его и видели – в обнимку?
– Я об этом подумал, посему побеседовал со стражей. Они говорят, что одной рукой Финк обнимал ее за плечи, а второй – придерживал за талию. Обе ладони были на виду, и обе – пусты. Secundo – это, кстати сказать, не нож Финка. У тех парней ножи либо самодельные, либо дешевые, но переточенные самостоятельно, и на рукоятях уж точно никто не разоряется – крепят деревяшку. Орудие же преступления имеет рукоять из меди с проволочным рисунком. Даже если предположить, что нож Финк мог и украсть, позвольте отметить: человек его рода занятий рукоять бы заменил; хотя бы по той причине, что таковая несподручна для ладони. Для работы, так сказать. Я осмотрел и место убийства. Свалка, в общем, не самый лучший лист для сохранения следов – открытой земли там почти нет, да и магистратские сильно натоптали; к тому же, когда Финка вязали, его хорошенько изваляли ногами – словом, если что и было, то все затерлось. Однако же я решил чуть расширить сектор осмотра и шагах в десяти от места преступления нашел вот это.
Курт вынул из-за отворота куртки короткий нож в чехле из старой, уже размягчившейся кожи, с рукоятью из дерева, перетянутой веревочной обмоткой, и выложил перед начальством на стол. Керн осторожно вытянул лезвие наполовину, медленно вдвинув его обратно, и поднял взгляд к нему:
– Это?..
– Нож Финка, – кивнул Курт. – Это не только его показания, я их подтверждаю: четыре месяца назад я видел его с этим ножом, когда встречался для получения сведений.
– За один лишь факт ношения оружия ему уже можно руки обрубить, – заметил Керн, и он поморщился:
– Бросьте, это к делу отношения не имеет… Так вот – сомневаюсь, что до бесчувствия пьяный, обуянный похотью и жаждой убийства исступленный безумец пойдет Бог знает куда выбрасывать свой нож, дабы после извлечь невесть откуда другой, а уж после резать жертву. Вернее вот какая версия: нож этот с него снял тот, кто является истинным виновником происшествия, а, уходя после всего совершенного, его выбросил, разумно рассудив, что светские с их манерой вести дознание и не додумаются прочесать свалку вокруг места убийства.
– Есть свидетели того, что этот нож ты нашел именно на свалке? – уточнил Керн, и Курт усмехнулся:
– Разумеется. Все два с половиной часа, что я шатался среди отбросов, я таскал с собою несчастного мусорщика – того самого, который видел Финка с девочкой. И теперь – tertio[19]; главное, что меня настораживает в этом деле. Стража на воротах говорит, что девочка шла с распущенными волосами, накрытая каким-то драным плащом – поэтому они решили, что попросту какой-то подонок в компании шлюхи… прошу прощения, это их слова… решил прогуляться за пределами стен. Это (по их словам), случается довольно часто; бюргермайстер жаловался, что на свалке нарождается своя жизнь, какие-то конуры из старых досок, тряпья и прочего мусора – там обосновались те, для кого излишне опасно в самом Кёльне, из-за чего он уже давно планирует вычистить это место… Но это к делу сейчас не относится. Так вот, частенько преступники и просто нищие из города выходят пообщаться с приятелями снаружи, посему стража и не удивилась. Главное здесь вот что: из-за распущенных волос лица было почти не разглядеть (да и кто разглядывал?), вокруг – предутренние сумерки, стража полусонная; все, что они видели – это (четко) Финка, который обнимал (это уже без детальностей) невысокую щуплую девицу, блондинку.
– К чему ты ведешь, Гессе? – нахмурился обер-инквизитор, и Курт кивнул:
– Я к этому подхожу. По словам арестованного, вечером накануне ареста он пьянствовал в «Кревинкеле»[20]… Это даже не название, – пояснил Курт в ответ на вопросительный взгляд, – так, прилепившееся со временем словечко; нечто вроде трактирчика в полуподвале, где собирается местное отребье. Прежде там можно было спокойно находиться, не боясь, что нагрянут магистратские, и, судя по всему, за одиннадцать лет ничто не изменилось… Так вот, там Финк изрядно охмелел, и внезапно обнаружилось, что девица, обещавшая ему ночь, исчезла, а вместо нее к нему подсела другая. Незнакомая. Маленькая (ему по плечо), щуплая, плоская – это его описание. Блондинка.