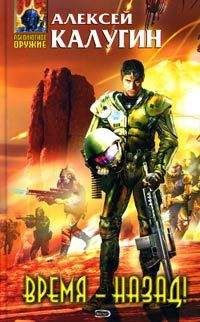Максим Дегтярев - Карлики
— На того, кто является без спросу, — парировал он, — я уже сказал — ко мне без приглашения не являются. Итак, ваше имя…
— Ильинский, репортер из… впрочем, не важно.
— Репортер? Хм, и вы думаете, я вам поверю?
— Ну и не верьте, — пожал я плечами, — в любом случае, раз я уже здесь, вам придется ответить на несколько вопросов. И не все из них будут вам приятны, я надеюсь.
— Посмотрим, — тихо сказал он.
— Вчера, в одиннадцать тридцать вы разговаривали с Перком через комлог. О чем вы говорили?
Профессор молчал. Именно так я более-менее и представлял себе начало нашей беседы. Поэтому, пока одна половинка моего мозга пыталась подвести профессора к нужной для меня теме, другая продолжала потихоньку осматриваться. Был ли это кабинет профессора или гостиная — сказать трудно, поскольку, за исключением полутемной прихожей, я нигде побывать не успел, но и здесь любопытных вещей было хоть отбавляй. Слева от письменного стола стояла полутораметровая статуя необычного божества с птичьей головой, человеческим туловищем и руками. Ноги божества заканчивались змеиными головами. Если бы на моем месте оказалась Татьяна, то она, без сомнения, догадалась бы, кто позировал скульптору. За спиной у профессора высились стеллажи с кодексами. Названия на корешках книг я со своего кресла разглядеть не мог. В стеклянной витрине были расставлены статуэтки размером поменьше, чем птицеголовый. Некоторые из статуэток мне напомнили те рисунки, что я видел, когда просматривал локусы с гномами. Там же, в витрине, находилось несколько засушенных паукообразных существ, привезенных, скорее всего, с Оркуса. Издалека, их можно было перепутать со статуэтками, изготовленными (я надеюсь) человеком. Письменный стол загромождали модели старинных алхимических приборов — как намек на преемственность ученых поколений, вероятно; ворох исписанных бумаг рядом с зажженной масляной лампой грозил неминуемым пожаром. Лежавший рядом с лампой, современный комлог показался бы анахронизмом тому, кто никогда не видел, что творится у меня дома. Прямо напротив меня, на столе стоял колокольчик — он именно стоял, поскольку подставкой и одновременно язычком ему служил вертикальный металлический стержень, проходивший одним концом внутрь колокольчика. Внизу стержень заканчивался плоской треногой. Вокруг стержня, узлом была завязана засушенная змейка.
На стене, рядом с витриной висела картина с приблизительно таким сюжетом: человек стоит лицом к зеркалу, но видит в нем собственный затылок. Нет, не так — мы, зрители видим в зеркале его затылок, что видит человек — нам неизвестно. Эту картину я точно где-то видел. Я готов допустить, что за исключением картины, все предметы в комнате имели оригинальное происхождение, но только она одна не походила на бутафорию.
Слева от меня находилось большое — во всю стену — окно. Когда я осматривал башню — сначала в бинокль, затем — вблизи, когда барахтался в снегу, я не заметил никаких окон; вся поверхность здания была совершенно однородной, темносерого цвета и не более гладкой, чем необработанный камень. Но мало того: легко различимые сквозь оконное стекло снежинки двигались как-то странно, прямо на меня, а облака, если приглядеться, плыли снизу вверх, как из-под земли. Но сама земля, вместе с океаном, куда-то подевалась. Метель напрочь размыла горизонт. Бледный солнечный диск время от времени проглядывал сквозь низкие облака, но находился он, почему-то, в зените, а не над горизонтом — где ему надлежало быть в это время и на этой широте.
— Вы смотрите на небо, — вкрадчиво произнес Франкенберг и видя, что я его не понимаю, пояснил:
— Окно смотрит вверх. Так гораздо удобнее, чем сидеть задрав голову.
Тут до меня, наконец, дошло. Я хотел спросить, не кружится ли у него голова, но постеснялся.
— Сейчас переключу на океан, — сказал профессор мне, а затем, уже обращаясь к окну, внятно произнес: «Северо-запад.» Картинка практически не поменялась, если не считать того, что солнце совсем исчезло, но ведь оно могло и за облаками спрятаться.
— Вы уверены, что не нужно сказать «абракадабра» или вроде того, — ухмыльнулся я.
— Уверен, просто погода окончательно испортилась — ничего не видно.
«Что-то мы отвлеклись от темы», — подумал я и снова спросил про Перка.
— Да, я его ЗНАЛ, — с нажимом произнес Франкенберг, — талантливый был человек. Но к его смерти я не имею ни малейшего отношения. Интересно, как вы умудрились так быстро меня найти. Не думаю, что он успел вам что-то сказать.
— То, что мне нужно было услышать от него, я услышал. Но, к сожалению, наша беседа прервалась на очень интересном месте, мы беседовали о гномах, такие древние человечки были, вы вероятно слыхали?
— Что ж, это достойная тема для беседы… особенно для людей столь равноудаленных от проблем истории, как вы и Перк.
— Вы тоже не историк, насколько я знаю. Но Перка больше нет и поговорить о гномах мне не с кем — только с вами. Перк был убит из-за них?
— Так это убийство… Как странно… Но при чем тут я?
— Лично вы, возможно, и не причем, но сами гномы наверняка тут очень даже при чем. И ваше имя упоминается рядом с ними далеко не однажды.
— Хорошо, если вы так настаиваете… Я расскажу, но исключительно из симпатии к вам, поскольку теперь я вижу, что Перк на ваш счет ошибался…
— А что Перк сказал обо мне? — я попытался поймать его на слове.
— Теперь это уже не важно, — моя попытка не удалась, — скажите, как вы думаете, человек по природе своей порочен или нет? — неожиданно спросил Франкенберг. Мне показалось, что он уж слишком издалека начал.
— Непонятно, где начинается человеческая природа, а где заканчивается…
Профессор улыбнулся:
— Ваш ответ вполне в духе человеческой природы. И это несмотря на то, что вы хотели ответить максимально неопределенно. Нет, правильнее сказать так: именно неопределенность и является одной из основных составляющих человеческой природы.
Я возразил:
— Ничего удивительного — ведь нельзя и слова сказать, чтобы потом не посмеяться над тем, что сказано. В конце концов, вся природа состоит из определенности, то есть законов физики, и неопределенности, которая тоже, своего рода, закон физики.
— Ну да, добавьте сюда свободу воли, и вы получите человека, — согласился Франкенберг и, непонятно чему улыбаясь, уставился в окно.
Мне пришлось напомнить ему о том, с чего он начал:
— Вероятно, вы спросили меня о порочности и непорочности, потому что сами знаете ответ?
— Ответ давно известен. Человек порочен, чтобы вы там не подразумевали под «человеческой природой». Порочен не в бытовом смысле, а, если так можно выразиться, в библейском. То есть несовершенен.