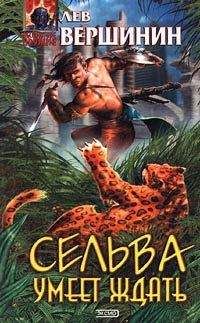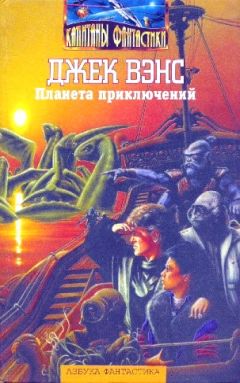Лев Вершинин - Сельва не любит чужих
Собственно говоря, Анатоля Грегуаровича не то чтобы ударили. Скорее просто оттолкнули. Но очень сильно. Так, что несчастному доктору искусствоведения пришлось ухватиться за филенку, чтобы не пропахать носом навощенный пол.
И Егорушка…
…нет, вы только представьте себе — Егорушка Квасняк, — не человек даже, а функция, живая явка с повинной, обязанная при любых обстоятельствах держаться в тени, сомнамбулически ухмыляясь, перешагнул порог и первым ступил на сияющий паркет кабинета главы планетарной Администрации.
Мокрые губы его дрожали и кривились. Глаза вдохновенно сияли, и не было в них ничего, кроме обожания и восторга.
В отличие от декадентствующего эстета-профессора, дитя природы было напрочь лишено комплексов. Ему велели идти, и он покорно побрел за благодетелем, ни о чем не спрашивая, а только прилежно стараясь не вырываться вперед, не отставать, не глазеть без толку по сторонам и вообще быть паинькой.
Он зуб мог дать, что старался изо всех сил!
Но распахнулись широкие двери кабинета, и ему стало не до наставлений старины Профа.
Потому что прямо перед ним, на том конце агромадной комнаты, под красиво растянутой по стене двухцветной простынкой и портретом неведомого последнему из новошанхайцев важного деда, возвышался тот самый человек, что так часто являлся юному Квасняку в сладких, обидно недолгих снах…
Там сидел папа!
Это было ясно с первого же взгляда.
Честно говоря, Егорушка отродясь не страдал избытком воображения. Но тайна собственного происхождения занимала его и мучила чрезвычайно. С тех еще дней, когда он, сопливый и голопузый, до поздней ночи ждал на темной улице, пока новый мамин дядя уйдет, а мама, веселая, красивая и немножко пьяная, выглянув из подвала, позовет его ужинать.
Сперва вихрастый Егорка надеялся, что кто-то из этих думных и добрых дядь, пахнущих первачом и самосадом, как раз и окажется папой. Ему хотелось, чтобы это был тот, рыжий и крикливый, или этот, весь в молодецких наколках, но, на худой конец, сгодился бы и третий, бритый наголо, который всегда смеялся и не разрешал мамке бить ногами…
Но дяди сменяли друг дружку слишком быстро. А потом почему-то пропадали непонятно куда, даже не желая узнавать Егорушку на улице. И со временем самой большой и, наверное, единственной мечтой тощей долговязой безотцовщины стал настоящий папка, который вернется однажды, изругает маму, а может, даже побьет, но, конечно, только руками,и не очень сильно, и уведет Егорку с собой, крепко взяв за руку.
Куда? И что будет дальше? О, не стоит так привередничать! На подобные всплески фантазии у юного Квасняка не хватало извилин. Он просто верил, ждал и надеялся… Однажды, став постарше, он прямо спросил у мамки: где мой папа?
Но маменька сильно постарела. Она облысела, зубы повыпадали, дяди давно кончились, и она мало что могла вспомнить…
Чаще всего она говорила, что папа — участковый, что он взял свой большой красивый пистолет и пошел ловить преступников, но скоро вернется. Иногда папа оказывался помощником аж самого народного депутата. Изредка — журналистом, и не простым, а главным редактором стереоканала «РИАК-информ»…
А однажды выяснилось даже, что папа — юрист! Но Егорушке не хотелось быть сыном юриста. Это скучно. И отпрыском редактора или депутатской «шестерки» он тоже не желал себя видеть. Даже образ отважного участкового с огромным пистолетом казался блеклым и обыденным, никак не соответствующим выстраданному идеалу.
Что бы там ни плела выжившая из ума родительница, на сей счет у юного Квасняка имелись собственные соображения…
Разумеется, он ими не делился. Ни с кем. Однажды, правда, попробовал, но ведь вокруг одни паскуды! Им ничего доверить нельзя. Они завидуют и дразнятся. И пусть. Все равно, в глубине души дитя природы твердо знало: папа — космолетчик!
Это стало ясно в одну из бессонных ночей, когда бедолага вертелся на койке и никак не мог уснуть. Папа сам, лично, пришел к нему, сел на край матраса и все-все подробно обсказал, ничего не скрывая.
«Ты поймешь меня, сын, — сказал папа, слегка светящийся во тьме барака, и положил на плечо юнцу тяжелую, именно такую, какая виделась в грезах, руку. — Мать не смогла, но она женщина, а мы с тобой мужики…»
Не правы были злые новошанхайские сплетницы!
Он вовсе не бросил маменьку за блядство и даже не думал забывать Егорушку, кровиночку свою; вовсе нет! Он отправился в дальний-предальний полет, к неведомым звездам, исполнять совершенно секретное задание правительства. Там, где скользкие зеленые крысы обижают маленьких мальчиков и девочек, там сражается папа, храбрый и ужасно сильный. Тяжеленный пулемет, больше даже, чем рушницы у бородатых, висит у него на широком плече, и папа идет сквозь огонь, спасая всех подряд, чтобы всюду, во всей Галактике людям жилось так же хорошо и привольно, как в Новом Шанхае…
Но когда-нибудь он вернется насовсем!
В это Егорушка не просто верил. При чем тут вера? Ведь папа — это папа, а не какой-нибудь Бог. Нет, Егорушка понимал, что именно так оно и будет, потому что иначе быть не может никак. Он не знал только: когда? Оказалось — сейчас.
Здоровенный дядька в клевом прикиде с прибамбасами был именно тем, кто порой захаживал в предрассветный барак. Те же могучие, неимоверной ширины плечи, тот же короткий белобрысый ежик, сползающий на низкий, прорезанный двумя глубокими морщинами лоб, те же самые прозрачно-голубые, ни в чем не сомневающиеся, до сердечного замирания родные глаза…
А самое главное, сидящий за столом улыбался! Той самой неповторимой, открытой, необычайно слав ной и всепонимающей папиной улыбкой, которую дитя природы, отца никогда не видевшее, помнить, конечно же, не могло, но которая виделась ему, и грезилась, и светила лучиком надежды в самые хмурые дни, даже тогда, когда клинок удалого бородатого оольника чиркнул его, карабкающегося на стенку, по ноге, едва не снеся вместе с каблуком пятку.
За один лишь проблеск этой улыбки юный Квасняк, не сомневаясь и не медля, удавил бы рушником кого угодно, даже Профа, кормильца и благодетеля…
— Па-па-а, — зачарованно пролепетал Егорушка и медленно двинулся в направлении письменного стола, слепо вытянув руки.
Никто, видимо, не поверит, но в этот миг подполковник действительной службы, мастер-инструктор «невидидимок» Эжен-Виктор Харитонидис, полный кавалер Гарибальдийского банта, обладатель «Звезды Мужества» всех семи степеней и именной, разрешенной к ношению при себе шелковой удавки, впервые за прожитые сорок с лишним лет по-настоящему испугался.
Судя по выражению лица, идущее к нему намеревалось оказаться навсегда…
Рука главы Администрации судорожно рванулась под китель, затем — к поясу, потом — к голенищу и тут же замерла, словно осознав безнадежность сопротивления.
— Здравствуй, папка, — все тем же замогильным тоном промяукал Егорушка, неотвратимо приближаясь.
Подполковник Харитонидис съежился и, кажется, пискнул.
Он никак не успевал уже выскочить из-за стола, путь к двери был напрочь перекрыт, а окно чересчур далеко…
Но в эту минуту наилучшим образом проявил себя преданный адъютант, как и положено по должности, мгновенно сориентировавшись в обстановке.
— Здррррравствуй, Буррратино! — проверещал Гриня, затянутый в серо-стального цвета балахончик с роскошными золочеными аксельбантами, и кинулся наперерез непрошеному родственничку. — Пррриходи завтррра!
Прррошу! Пррривет!
Дитя природы замерло на полушаге.
И пришло в себя.
А придя, ужаснулось содеянному.
Не было сказки. Не было совсем.
Маленькое и визгливое, снующее у ног, в папы не годилось никак. Оно никогда не смогло бы нести на плече тяжелый пулемет. Дяденька за столом, хоть и большой, но вконец перепуганный, тоже за родителя не канал, поскольку Егорушкин папочка был очень храбрый, храбрее самого Живчика или даже господина Баркаша, и он ни за что на свете не стал бы так позорно таращить зенки. А тяж Кое сопение Профа, истуканом замершего у дверей, однозначно сулило слишком увлекшемуся мечтаниями Квасняку много нехорошего…
Засим Егорушки все равно что не стало. Он, естест венно, никуда не сгинул, но сделался маленьким и совсем-совсем незаметным.
Постепенно отходя от пережитого ужаса, подполковник Харитонидис с захлебом втянул ртом воздух. Выдохнул. Шумно помотал головой. И с огромной признательностью посмотрел на адъютанта.
В очередной раз жизнь со всей очевидностью доказала, что умные люди древности были действительно мудры, утверждая: основная задача руководителя заключается вовсе даже не в руководстве как таковом, а исключительно в правильном подборе кадров, которые, кто бы что ни говорил, воистину решают всё.
— Подпрапорщик Тхуй! — отрывисто, словно на плацу, взрыкнул Харитонидис.
Подпрыгнув, Гриня вытянулся в струнку.