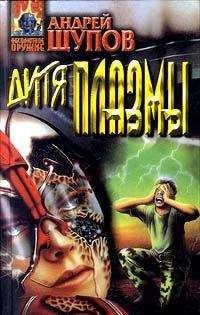Андрей Щупов - Дитя Плазмы. (Сборник)
— Молчишь и молчишь. Весь какой-то как в панцире, — ее кулачок колотнул меня по ребрам. — У тебя даже кожа какая-то каменная.
Я укусил язык и тем самым спровоцировал его на некоторую разговорчивость.
— Может быть, наоборот? В том смысле, что, может быть, я мягкий, как земля, которую все топчут? Знаешь, есть такие грунтовые дороги — в жару они крепче бетона, а пройдет дождь, и ничего от их крепости не остается. Одна грязь и слякоть.
— Значит, мне нужно над тобой поплакать?
— Лучше улыбнись. Слезы никому не идут.
— Тогда почему не улыбаешься ты? — ее лицо склонилось надо мной, как большая теплая луна. — У тебя такие грустные глаза.
— Это не грусть, это страх, — честно ответил я.
— Ты боишься меня?
— Я боюсь всех.
— Всех-всех? — она удивилась.
— Всего-всего и всех-всех.
— Вон оно что… А я думала, ты за Пронина переживаешь.
Внезапная догадка обожгла мой мозг, и спать сразу расхотелось.
— Да нет же… — я рывком сел, чуть отодвинув ее в сторону, и потянул со стула одежду. — Спи, золотце. Попроведаю на кухне Толика.
— Так я и знала, — глаза у нее опустели. — Ты думаешь, он меня любит?
— Я ничего не думаю.
— Тогда почему ты одеваешься?
— Схожу покурить. Или ты против?
Она не ответила. Безжизненной материей рука ее соскользнула с моего плеча. Быстренько одевшись, я двинулся на кухню. В спину мне долетело:
— Иди, иди! Спроси, зачем он водит ко мне своих друзей.
— Спи, золотце, спи, — я заставил себя не оборачиваться.
Хотелось надеяться, что Толечка спит, но он не спал. Он сидел в крохотном закутке за холодильником и в одиночестве пил. Бутылка «Столичной», видимо, выуженная из того же холодильного агрегата, была наполовину пуста.
— Брось, — я взялся за бутылочное горлышко, но Толечка перехватил руку. На меня он не смотрел.
— Тогда давай вместе — на двоих, идет? — я огляделся в поисках посуды и взял с полочки пару эмалированных кружек с затейливыми ягодками на боках. Наблюдая, как я разливаю по кружкам прозрачную, такую безобидную на вид водку, Толечка всхлипнул.
— Чего ты? — я ткнул его кулаком в плечо.
Он всхлипнул еще раз.
— Разве я виноват? Ты мне скажи, виноват?
— Нет, — я придвинул к нему одну из кружек. — Никто не виноват. И никогда. Как говорится, обстоятельства…
— То-то и оно…
Мы чокнулись кружками и, шевеля кадыками, кое-как управились с горькими порциями.
— Всего и делов, — я поднялся. — А теперь расходимся. Я домой, ты к ней.
Он испуганно замотал головой.
— Я не могу! Ты что? Нет!..
— Дурак!.. — я попытался прищелкнуть невидимым кнутом перед опьяневшим верблюжьим караваном мыслей, но ожидаемого хлопка не услышал. Пьяные не владеют кнутом, а мне нужен был белый верблюжонок — добрый, еще не научившийся плеваться и не умеющий бить близстоящих голенастыми ногами, — такой, чтобы было приятно гладить его белую шелковистую шерсть и чтоб в агатовых больших глазах сияло неомраченное доверие. Такого верблюжонка не находилось. Серым и лохматым пятном стадо металось от виска к виску, раскачивая мою тяжелую нездоровую голову.
— Ладно, — пробормотал я, — мне пора.
— Погоди! Ты куда? — всполошившись, Толечка ухватил меня за руку. — А ей что я скажу?
Я не без труда расцепил его суховатые пальцы на своем запястье.
— Что хочешь, то и говори.
— Легко сказать!..
— Тогда скажи про меня что-нибудь свинское. Скажи: мавр сделал свое дело и отвалил.
— Она обидится, ты что?!
— На меня, но не на тебя.
— Я так не могу!..
— Ну и зря! Ты — это ты, а она — это она, — мутно произнес я, на ходу соображая, чем бы закончить. — Чего ты от меня хочешь? Кольца желаний? Нет у меня кольца. И лампы нет. Я тебе не Алладин.
— Но ты мне друг!
— Именно поэтому я ухожу.
Я шагнул к выходу и оглянулся.
— Иди к ней, дурила. Иди!..
С засовом я справился, с цепочкой тоже. Путь был свободен. Мышиного цвета ступени — числом более трех десятков вновь промелькнули перед глазами мехами единой, изуверски растянутой гармони. Старая щербатая дверь подъезда, должно быть, проскрипела вслед ругательство, захлопнувшись, проставила точку. А может, и восклицательный знак. Кирпичный домина беззвучно плюнул мне в спину. Я покорно утерся.
ЛЯ И СИ В ОДНОМ НАЖАТИИ
Ночь меня не устраивала, ночь мне была не нужна, и время, попятилось, с ворчанием уступив припозднившемуся гуляке вечер.
Не такое уж большое одолжение, если разобраться. Сколько у него таких вечеров в загашнике! Зимних и летних, пыльных и пасмурных — словом, на любой выбор и на любой вкус. Специально я не заказывал. Согласен был на любой. И мне выдали теплый, двубортный, из темного габардина, с первыми блестками звезд и усталым дыханием ветра. Я напялил его на себя и удовлетворенно крякнул. Все оказалось впору и по размеру. Можно было смело шагать домой, временами представляя себя младенцем, подброшенным равнодушными родителями к крыльцу чужого не моего города.
На улицах моего чужого города сыпал снег, и я способен был видеть себя со стороны и с высоты лет. Существо, оставшееся внизу, в сапожках, пальтишке и варежках, принадлежало к разряду романтиков. Кругом белел первозданный снег и только крышки канализационных люков чернели вызывающими пятнами — этакими каплями дегтя в медовой бочке, кляксами посередине страницы. Существо в пальтишке подбрело к ближайшему люку и стало терпеливо присыпать его снегом. Присыпав, удовлетворенно вздохнуло, искательно огляделось. Даже романтикам порой необходимо, чтобы кто-то видел их светлые усилия в напрасном.
Все так же сверху я показал мальчонке большой палец и улыбнулся. Хотелось, чтобы он поверил в мою улыбку. Детям мало улыбаться, им надо улыбаться искренне. Каким-то шестым чувством, похлеще всяких собак, они улавливают чужую фальшь и отворачиваются. Этот не отвернулся. Возможно, поверил мне, а возможно, сделал вид, что поверил. Я ведь упомянул: он принадлежал к разряду романтиков, а романтики великодушны. Продолжая улыбаться его румяным щекам, я вспомнил желтые косички еще одного малолетнего романтика — девочки. Уже из лета, из месяца августа, того самого времени, когда вечерние марафоны по улицам приносят больше грязи, чем здоровья. Малышка стелила поверх луж газеты и плакала, видя, как быстро они намокают. Она боролась с лужами, она хотела, чтобы люди гуляли по сухому и чистому…
Я сморгнул. Видение чужого города и маленьких фигурок рассыпалось сахарными кубиками, растаяло в гремучем кипятке.
Коньяк, спирт и водка при минимуме закуски мало чем отличаются от серной кислоты. Желудок болезненно содрогнулся, норовя изрыгнуть содержимое вверх по пищеводу. Мозг же посылал директивы иного порядка: растворять, переваривать, употреблять в дело. Организм глухо бурлил, по всей видимости, затевая бунт. Директивы ему не нравились. Возможная месть в виде прободной язвы вызывала у него злорадное довольство, а у меня приступы ярости. Мы играли в перетягивание каната — каждый на свою сторону.
Не обращая внимания на поздний час, какая-то женщина в платке и тренировочном костюме чинила забор возле приусадебного участка. Чинила по-женски, неумело. Гвоздь у нее все время загибался, она терпеливо принималась его выпрямлять и снова вколачивала в дерево. Мне захотелось отнять у нее молоток, шарахнуть по гвоздю так, как он этого заслуживал, но, скромно отвернув голову, я прошествовал мимо. Шагая по парку, почувствовал головокружение и точно подстреленный снайпером рухнул под раскидистыми акациями.
В коротком забытьи ничего не видел, но чувствовал, как шевелятся под черепом жуки-короеды, прогрызая извилины, как душит кто-то, навалившись на грудную клетку бизоньим весом. Очнулся от собачьего лая.
Похожая на крупного теленка, московская сторожевая припадала к земле, скалилась и рычала. Оказалось, что не на меня. Поблизости расположилось кошачье семейство. Мать преспокойно возлежала на травке, рыжий котенок путано бродил вокруг нее. Папаша, так мне по крайней мере подумалось, стоял на полпути между семьей и собакой. Особой тревоги он также не выявлял. Хвостом воинственно лупил себя по бокам, вприщур глядел на сторожевую.
Сердце окутал страх. Вздрогнув, я кое-как поднялся. Садюга-муравей жалил ногу, забираясь под брючину выше и выше, а я знал, что завтра опять настанут холода. Слишком уж спокойно взирали коты на собаку, слишком уж зло хрипела последняя. Муравей шел не в счет, хотя и его можно было приплюсовать к увиденному. В этом мозаичном мире все они занимали строго определенные места. Псу не пристало сомневаться в правоте собственного лая, коту было плевать на этот лай. Для них все было естественным. Они не собирались сходить с ума. Я был скроен из таких же молекул, как и они, пил воду и дышал кислородом. Но при всем сходстве и подобии я представлял собой иное создание. И дело заключалось не в психастении. Я ощущал чужую дрожь, чужой страх. Ощущал даже в том случае, когда жертвы пребывали в полнейшем спокойствии. Посторонний вскрик вызывал у меня содрогание, обморок женщины на экране скрючивал пополам. И там, где других спасает равнодушие, меня спасало ненастье. Жмурясь и прикрываясь руками, я словно нажимал невидимые кнопки, напрягая тучи, магнитом притягивая к городу ураганные ветры, метель и град. Улицы начинали пузыриться от ливней, снег торопливо присыпал пугающие меня следы. Работники прогноза терялись, ничего подобного не мог припомнить ни один из живущих в городе старожилов.