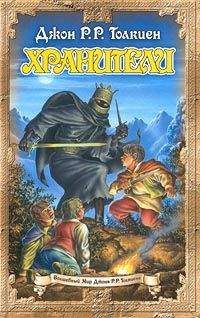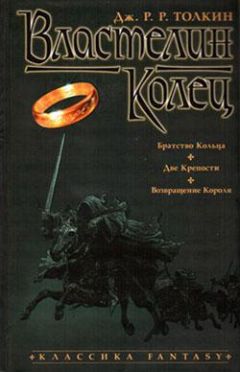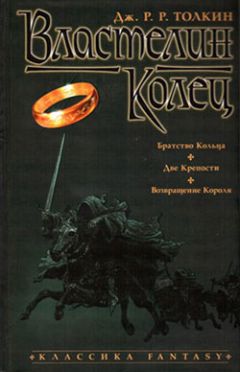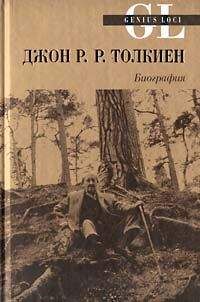Дмитрий Ермаков - Метро 2033: Третья сила
– Я тоже задавал его. Мне повезло, я нашел священника. Самого настоящего, представляешь? Он был рукоположен в иерея перед Катастрофой. Отец Вениамин – так его зовут. В честь святого митрополита Петроградского. Тот тоже пострадал в свое время… Я пришел к нему, когда мне было лет двадцать. Я тогда был в похожем состоянии – лишился отца. Он погиб нелепо, глупо – на «Пушке»[25] шел передел власти. Его шальная пуля зацепила. Жил себе человек тихо, не лез ни в какие разборки, не поддерживал ни один из кланов. И погиб. Я пришел к священнику, весь пылая праведным гневом, и стал бросать ему в лицо обидные, злые слова. Я не выбирал выражений. Кричал в лицо батюшке, что если бы Бог был таким, каким его изображают в книжках, не случилось бы Третьей мировой войны. Что я в упор не вижу в этом мире ни добра, ни справедливости. Что нет в мире людей, которые бы соблюдали заповеди. А раз так, то зачем они нужны? И еще много чего я ему наговорил. Даже назвал Бога дураком. Смешно, правда?
Но на этот раз Лена не улыбнулась – либо окончательно лишилась сил, либо не видела в словах Бориса ничего смешного. И тогда Молотов резко посерьезнел и заговорил уже без прежних шутливо-истерических интонаций. Голос его звучал мягко, проникновенно.
– А он молчал. Смотрел на меня с грустью в глазах. Слушал, не перебивал. Он хороший психолог, этот отец Вениамин. Там есть еще второй священник, в подземном Исаакии, отец Августин, он монах, и поэтому очень строгий, у него терпения на меня бы не хватило, это точно. А батюшка Вениамин понял: перебивать меня нельзя. И он слушал. А когда я выдохся, сказал всего одну фразу. Как думаешь, какую?
– «Сам ты дурак»? – предположила Лена.
– Августин бы именно так и сказал, – расхохотался Борис, – и был бы, кстати, прав. Но нет. Отец Вениамин сказал вот что: «Я тоже не вижу, сын мой». И замолчал. Я так и опешил. Чего угодно ждал, только не такого. Думал, что он спорить со мной будет, убеждать. Может даже проклянет, как страшного грешника. А он сказал только одну фразу, понимаешь? И я понял с содроганием, что батюшка со мной согласен! Со-гла-сен! И в том, что в мире нет ни добра, ни справедливости. И в том, что человек, живущий правильно, великое чудо. Я опешил. Я просто обалдел, иначе не скажешь. Мне минут десять потребовалось, чтобы собраться с мыслями. А он не торопил меня. В подземном храме было мало народу, почти никого. Над верой в метро принято потешаться как над «забавным пережитком прошлого». Но это ладно. Так вот, нас никто не торопил. Мы сидели на лавочке. Я и он. Бунтующий парень и седеющий мужчина. Какая-то старушка убиралась, пол подметала и напевала про себя. Больше не слышно было ни звука. Наконец, я задал вопрос – тихо, без прежней злости и гнева, едва разжимая губы. Я спросил: «Ну ладно. А как же ядерная война? Почему Бог не остановил ракеты?». Вот тут-то, думал я, одной фразой не отделаешься. Вот сейчас-то, думал я, священнику придется мне целую лекцию прочесть, пересказав всю Библию с первых страниц. И я бы, конечно же, обязательно нашел, с чем поспорить. Одной фразой отец Вениамин не обошелся. Он сказал их десяток. Притчу поведал. И мне, когда он смолк, осталось только встать и молча удалиться.
Борис неожиданно замолчал.
Он прикрыл глаза, вспоминая тот далекий день, когда ноги будто бы сами собой понесли его в храм между станциями Гостиный двор и Маяковская.
Молотов вспоминал таинственный полумрак, царивший в небольшом техническом помещении, превращенном стараниями верующих в часть «подземного Исаакия».
Чуть слышное бормотание старушки, напевавшей себе под нос: «Досто-ойно есть».
Невероятная усталость и в то же время безграничная доброта в глазах пожилого священника.
Он, Борис, еще не знал, сколько зла, сколько боли пришлось вынести на своем веку отцу Вениамину. Не знал, что батюшка потерял в аду ядерной войны жену и пятерых детей; что первые недели жизни в метро он почти ничего не ел и едва не умер от истощения; что церковь, которую он попытался создать под землей, несколько раз грабили, а самого священника зверски избивали.
В ту минуту Борис понял: даже если он ни разу больше не зайдет в храм, этого священника, назвавшего его с нежностью «сын мой», он будет уважать до конца своих дней.
– Так что он сказал вам? – произнесла Лена, терпеливо ожидавшая продолжение рассказа.
Молот спохватился и с досадой покачал головой. Предавшись воспоминаниям, он совсем забыл, что пришел сюда для того, чтобы помочь Рысевой, а не себе самому. О Лене он на какое-то время как будто позабыл, а ведь девушка могла в любой момент снова уснуть. И Борис, не теряя больше времени, пересказал ей притчу. Ту самую историю, сочиненную отцом Вениамином, что помогла ему обрести ответ хотя бы на один из «проклятых вопросов».
– В бункере, глубоко под землей, сидел большой человек. Один из тех, кто отдал приказ запустить ракеты. Каждый день он говорил, обращаясь куда-то вверх: «И все это сделал я, я! Миллионы мертвы, весь мир сгорел, но я – жив! А Ты, где был Ты?! Я победил Тебя, слышишь?». И однажды услышал в ответ тихий, грустный голос: «И ты этому правда рад?». Вечером большого человека нашли висящим в петле.
Лена молчала. Глаза ее, все время разговора бывшие полузакрытыми, сейчас были широко распахнуты. Притча отца Вениамина тронула самые глубинные струны ее души, заставила усиленно работать ее душу и разум.
«Пусть побудет одна», – решил Борис Андреевич, вставая. Теперь он был более-менее спокоен за Лену. Теперь он не сомневался: дочь его погибшего друга сумеет вернуться к нормальной жизни, пусть и не сразу, пусть и с трудом. Просто ее надо было оставить в покое. Дать разобраться в себе.
Поэтому, увидев в коридоре Соню, надеявшуюся проскочить в квартиру Рысевых, Борис тоном, не терпящим возражений, отправил ее обратно домой.
– Иди-иди. Не нужны сейчас Лене разговоры, – заявил он Соне, почти силой выпроваживая ее на платформу, – оставьте, наконец, ее в покое. Пусть поспит.
Но Лена не спала. Она шептала строчки нового стихотворения, сложившегося в ее голове буквально несколько минут назад…
Солнце падает шаром пламенным
За студеный горизонт.
Лунным мертвенным светом залиты,
Летят снежинки под ветра вой,
Словно осколки жизней, разбитых
Той, последней, минувшей войной.
Наша Земля навсегда заморожена…
Ветры грызутся над ней, как волки.
Поналетели они, растревожили
Неприкаянных душ осколки.
Я на поверхности. Глухо рыкнула
«Гермы» черная пасть за спиной.
Зверем навстречу метель прыгнула,
Сжала сердце рукой ледяной…
Вьюга все вокруг заметает,
А где-то там, в поднебесной тиши,
Голубоватым огнем сияя,
Летит осколок моей души.
«Кое-где есть шероховатости, – подумала Лена, несколько раз повторив про себя строчки; к своему творчеству она относилась критически. – Не в том я сейчас состоянии, чтоб ритм держать. Да и вообще стихосложению стоит поучиться… Зато все, что на душе, излила. Сколько еще осколков отколется от моей ледышки-души? Останется ли от нее что-нибудь?»
Лена и сама пока не осознавала, что с той минуты, как рядом появился Борис, глыба льда в ее груди начала медленно, но верно оттаивать…
Прикрыв глаза и повернувшись на бок, она вспоминала день, когда встретила Бориса Андреевича в первый раз.
Это случилось три года назад. Жители Оккервиля шумно и весело отмечали праздник, День Победы. Почти все население трех станций собралось на Ладожской. И, конечно же, Рысевы тоже явились на это торжество. Василий Васильевич Стасов произнес длинную, напыщенную речь о бессмертном подвиге предков. Выступление Стасова Лена слушала вполуха. Девушка понимала, что начальник говорит важные и серьезные вещи, но ничего не могла с собой поделать – то и дело отворачивалась, чтобы поглазеть на собравшихся людей. Потом выступил полковник Бодров. Он был по-военному лаконичен и немногословен, но зато и внимали ему все как один, не смея шелохнуться.
– Вечная память павшим, – сказал Дмитрий Александрович. – Вечная слава Победе. Будем достойными наследниками.
Больше он не сказал ни слова. Но на станции на несколько минут воцарилась полная тишина.
«Вот как говорить надо», – подумала Лена Рысева, снова и снова повторяя про себя короткую, глубокую речь полковника.
Тут Лена заметила, что на импровизированную трибуну поднялся еще один человек. Его она раньше не видела у них в Альянсе. Он был одет так же, как и все сталкеры: мешковатые брюки, куртка с капюшоном, на ногах – шнурованные «берцы». Ничем не примечательный с виду субъект… Если не считать лица. Оно сразу привлекало к себе внимание. Большинство солдат и сталкеров не отличались красотой, а этот выглядел именно красиво, в самом лучшем смысле этого слова. Правильные, пропорциональные черты лица нечасто можно было встретить у тех, кто ходил на поверхность «за хабаром». А уж глаза… Они просто загипнотизировали Лену. Никогда еще ей не доводилось встречать человека, у которого глаза выражали бы такую непреклонную волю в сочетании с такой мудростью.