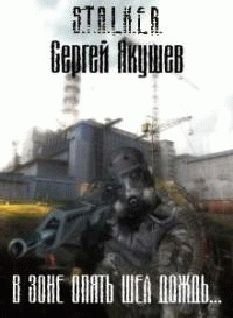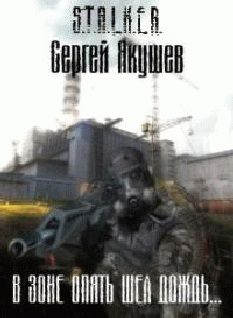Виктор Глумов - Город смерти
— Меня по фотографии не узнать, — улыбнулся Вадим, — я там чистенький, а тут я грязный и бритый. И морда заросла. Как в гриме, блин.
— Точно.
Она замерла, боясь спугнуть мысль.
— Точно. Мы — муты. Запомнил? Обычные муты. Идем со всеми вместе, спасаемся от какой-то дряни. Надо погуще дерьмом обмазаться. И ботинки сними. Босиком походишь. И голову, голову тоже — грязью! И рожу! Ну?
Разуваться Вадим не стал — и так ботинки утратили первоначальный лоск, покрылись коркой, разбиты вдрызг на дорогах этой России (которые после войны лучше не стали, естественно). Он послушно вымазался подтележной пакостью, провел пальцами по лицу, изображая Рэмбо. Сандра после тех же манипуляций ничем не походила на его знакомую — замарашка какая-то. Никому и в голову не придет, что бывший лунарь добровольно так угваздается!
Собака наблюдала за людьми с интересом.
— Проверь телегу, — совсем рядом появились берцы, прямо перед носом. — Половина попряталась, вот ведь дрянной народец. А приказ — всех собрать.
Лунарь заглянул в их убежище. Собака шумно почесалась, Сандра глупо хихикнула, Вадим выдал самую идиотскую из заискивающих улыбок.
— Оп-па! На выход, быстро! Вылезаем, я сказал!
Они выбрались, встали кособоко, Сандра смотрела под ноги, Вадим — на нее.
— На меня смотреть! На меня, шваль! Вот ведь уроды, вы что, вообще не моетесь? Слышь, капитан, они вонючие. Меня сейчас стошнит.
— Головы поднять! В лицо смотреть! — рявкнул капитан.
Вадим послушно уставился на лунарей. Страха не было, только отчаянная пустота. Он вспомнил, как Сандра играла дурочку, и решил придерживаться той же тактики: дебил я. Идиот. Вонючий. Но мирный-мирный, тихий-тихий.
— Фу, — поморщился капитан, — вы что, специально в грязи валялась? Ты посмотри, он там с бабой был…
Вадим сделал вид, что застегивает ширинку.
— Маленький чпок, — заныла Сандра, — хотите большой чпок, добрые люди?
— Гадость какая. — Капитан побледнел. — Твое счастье, стрелять не велено. Давай топай вперед. В центр этого вашего вертепа.
Сандра, мелко кланяясь, засеменила на «площадь», окруженную палатками, Вадим потопал следом. Капитан ругался и плевался, выражая свое недовольство окружающим миром вообще и мутами в частности.
* * *Когда началась облава, Леон проводил «социологический опрос», пытаясь вычислить, от кого и чего муты двинулись дружною толпою. Ходок держался рядом и ныл, ныл, ныл. Все ему было плохо, Вадим — особенно. И ничего приятного впереди не ждет: с той стороны и звери, и люди бегут. И, главное, молчат, не признаются, что за страховидло их так напугало. Даже бабы, разбитные бабенки, Ходока не радовали. Они чуяли ебаря-террориста, липли как мухи к говну, а Ходок отбивался. И не из-за того, что грязные, и не из-за того, что у некоторых — хвосты там, сиськи в два ряда… Раньше его не смущало — хвост можно подвинуть, а сисек чем больше, тем лучше. Просто был не в настроении, устал. И в пекло соваться не хотелось.
Леон беседовал со старшими. Здесь собралось несколько деревень, решали, куда идти, торговали помаленьку друг с другом, пили за встречу, любились и играли свадьбы. Над торжищем витал дух пира во время чумы, надрывного русского веселья на краю пропасти. «Эх, пить будем и гулять будем, а смерть придет — помирать будем». Так и жили, так и не решили, куда идти.
Леон давно изучил повадки мутов. Безобидные, не планирующие ничего дальше, чем на сезон вперед, они жили в покорности собственным болезням, смерти, уносящей и младенцев, и юнцов, лунарям, по прихоти выжигавшим целые деревни. Хозяйство вели ни шатко ни валко — здоровья не хватало. Первобытно-общинный строй, всеобщее равенство, староста (обычно — самый крепкий и мозговитый). Кочевье далось деревням страшной ценой: многие погибли в пути, не выдержав, — хилые, больные и беременные, малые дети, которых всегда было немного: редкая баба могла рожать, но уж если могла, плодилась с удвоенной силой, производя на свет и жизнеспособных, и убогих, имеющих с человеческим обликом мало общего.
Леон с несколькими деревнями поддерживал отношения: муты шарятся по лесу и заброшенным городам, выносят оттуда ценные вещи и всегда рады продать, да и человеческому отношению рады.
Собравшиеся здесь почти все были уродами. Они пришли с юга, где, вдали от лунарей и погромов, жили последние десятилетия. Ели «грязную» пищу и пили радиоактивную воду, выращивали на фонящей земле овощи.
Староста Кот, с трехцветной, пятнами бородой и выбритой башкой, поскреб подбородок.
— Мы первые ушли. Потом остальные снялись, когда увидели, что мы уходим. Мы ж все, ядрена вошь, соседями были. А как поперло зверье, растуды его в качель, пошли смотреть, что там такое понавылезло. У нас, на юге, иногда как вырастет — усрешься! Вон, помнишь, Лапка, жабу?
Староста Лапка, перепончаторукий кряжистый дядя, глубокомысленно кивнул.
— Такая жабень, чтоб ее перекорячило, вымахала! И повадилась, вишь, птиц, как комаров, трескать! Язычина — что моя телега длиной. Ам! И нет вороны. Мы на нее с рогатинами пошли, а то эта паскуда еще и бабу задавила, хорошую бабу, плодовитую. Как прыгнет — и баба в лепешку. Рогатинами достали, потом на две деревни мясо поделили. Нежненькое мясцо…
Староста Лапка вздохнул, подхватил со стоящего на земле блюда птичье крылышко и заработал мощными челюстями, перемалывая хрящики и косточки.
— Ты к делу давай, — поторопил Кота Леон, — что там было-то? Что даже вы не справились?
Засмеялся Горбатый, скрюченный старик, глаза которого слезились.
— Прыткий! Ишь! Тебе зачем? Неведома Хуйня там была! Во как!
Ходок, сидевший рядом с Леоном, закашлялся. Да, объяснил Горбатый, а все кивают со значением: она и была, иначе не скажешь! Муты — они хитрые, они информацию держат, ничего не вытянешь просто так.
Леон достал из кармана пачку сигарет. Забрал несколько у Вадикова «братца», хотел сам курить по торжественным случаям. Может, с Сандрой поделиться. Но Старост следовало умаслить.
— Угощайтесь, уважаемые. Лунарский табачок, махорке — не чета.
Зацокали, заохали, расхватали почти все в момент. Над посиделками поплыл вкусный дым.
— Вещь, — вынес вердикт Кот, — умеют лунари жить, барон. А пойла ихнего при тебе нет? Жаль…
— Так что там было? Зверь?
— А хрен его знает, — Кот затянулся, — ребята пошли смотреть — пропали. Еще отряд собрали, вооружили — и тех нет. Мне людей жалко. И скотина волнуется, и зверье из леса бежит. Ну, и мы снялись. Может, облако «грязное» принесло, может, еще что. А на смерть я своих отсылать не буду.
Снова — одобрительные кивки. Верно сказал, на смерть людей посылать — последнее дело. И так нас немного.
— И знаешь, — Кот в упор смотрел на Леона, — я — мужик тертый. Жаба мне — смех один, царь-рыба — так, ушицы сварить, ни от волка не бежал, ни от медведя-шатуна, ни от стаи кровососов, ни от пожара. И в город ходил, а уж там кто другой полные штаны навалит. А тут — печенкой учуял, драпать надо. Смерть там. Вот там что. А как выглядит — мне не важно, я, ядрен-батон, жить хочу. Ты, барон, жить хочешь?
— Хочу, — вздохнул Леон, которого рассказ не обрадовал, — но мне как раз туда, на юг, надо.
— Не ходил бы ты. Помирать — никому не надо. — Горбатый моргал часто-часто, и по щекам его катились мелкие слезы. — Молодой ты, здоровый. Бежишь от кого, что ли?
— Дело у меня на юге.
Горбатый покрутил птичьей головой.
— В город не ходи, барон. Сгинешь. Что зверье убежало — ладно, даже мошкара оттуда улетела. И рыба из рек ушла. Думаешь, Кот тебя пугает? Кот ничего не боится и никого не пугает, дело говорит. Погано там.
И замолчал. Ходок заерзал. Леон курил, смотрел на старост. Ничего толком не объяснили, сволочи, не знают ничего! Да мало ли, почему зверье бежит. И сколько в тех рассказах о великом исходе насекомых правды, а сколько мифотворчества — неизвестно. Оправдывают собственную немощь и трусость, байки бают.
Раздался стрекот. Старосты повскакивали, заозирались. Леон тоже вскочил: от леса к стойбищу неслись вертолеты.
Началась паника. Леон с холодным отчаянием понял: не уйти. Это — не случайность, это — облава. Или всех перестреляют, или выжгут. Или найдут Дизайнера и угомонятся, навсегда закрыв Леону ход в другой мир. Ходок вдруг пригнулся и мелкими шажками заспешил куда-то в сторону. Совсем парень сбрендил. Леон оторопело смотрел несколько секунд, как Ходок шуршит прямо в объятья лунарей, а потом догнал его, поймал за рукав. Ходок вырвался.
— Говорил! — Из пасти Ходока летели слюни. — Говорил, надо его сдать! Все, приплыли! Сейчас и так его возьмут! А нас положат!
— Молчи, — прорычал Леон, — заткнись наконец. Может, пронесет.
Вокруг носились муты, орали старосты. Ходок притих, уставился вверх, сгруппировался, как зверь перед прыжком. Псих гребаный.