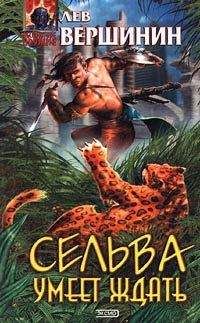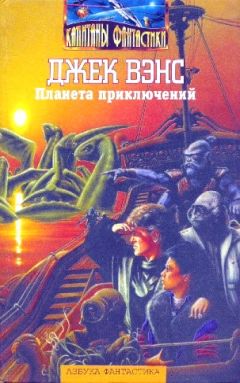Лев Вершинин - Сельва не любит чужих
Э! Как бы ни было, хорошо торговать с мохнорылыми; нехорошо с ними воевать. Бывало в прежние дни такое, и много храбрых дгаа пало прежде своего срока; и мохнорылые многими жизнями заплатили за пролитую кровь дгаа. Посчитав тех, кого уже не вернуть, встретились тут, у ручья, старики и порешили замириться, ибо не стремились мохнорылые в горы, людям же дгаа нечего было хотеть в редколесье…
Нет нынче меж двух народов дружбы, и можно ли вообще дружить с чужими? Зато есть между ними кое-что покрепче: мир, и взаимный страх войны, и взаимная польза от торга!
Если же случаются изредка стычки по вине горячих двали народа дгаа, ищущих подвигов за пределами родных земель, то не так кровавы они, как бывали некогда; может пролиться на землю кровь, но редко-редко отнимают у кого-то жизнь, и если случается такое, то старики, встретившись, оговаривают цену обиды, крови и неразрушенного мира…
Вот так! Но в неурочном приходе малого числа мохнорылых было нечто тревожное, и от груза, уложенного в их повозку, отчетливо пахло бедой. Запах этот пробивался сквозь плотную ткань, обтягивающую верх двуколки, и был он так горек, что Мгамба понял: не его это дело, ветре-чать пришлецов и говорить с ними у подножия священного камня, но иных, тех, кто много умнее его.
Потому, не показываясь, наложил на тетиву особую стрелу, из тех чудо-стрел, подобных которым нет в Тверди ни у кого, кроме гораздого на мудрости народа дгаа. Кричит в полете такая стрела на десять тонких голосов, а наконечник ее, пробивая грудь воздуха, испускает долго не гаснущий зеленый огонь. Виден такой огонь издалека светлым утром и зыбким вечером, виден темной ночью и сияющим, искрящимся летним днем…
По одной такой чудо-стреле есть в каждом колчане, и каждый воин дгаа, уходя из поселка, проверит, там ли она, ибо знает: нельзя предсказать, что будет миг спустя, и не простят старики, если в нужный час не полетит вестница…
Рванулась стрела, и полетела стрела, и улетела вдаль, воя, как зверь, плача, как дитя. Дымный тонкий след тотчас же потянулся за нею, а спустя столько времени, сколько нужно для девяти вздохов, расцвел в прозрачном воздухе зеленый цветок, раскрылся, распушил косматые лепестки и обернулся ярко слепящим, громко кричащим, безжалостно вспарывающим светлую грудь Тха-Онгуа костром!
Летела стрела, разметав по ветру зеленую гриву, и вот уже где-то там, в лесах, раскинувшихся выше по склонам, ответила ей вторая, точно такая же. А спустя совсем недолгое время еще выше, там, где лежит любимый живущими на небесах Дгахойемаро, поселок вождей народа дгаа, поднялся, черный на фоне белоснежных вершин, высокий дым, уже не тощий, как от чудо-стрелы, но толстый, гордый…
Наблюдатель в поселке увидел вовремя, понял правильно и ныне оповещал Мгамбу о том, что скоро к камню придут старейшие.
И они явились, было же их двое и трое, двое почтенных стариков и трое легконогих юношей. Немного, да. Но не желтая же стрела-тревога была выпущена на волю приметливым Мгамбой, а всего лишь зеленая стрела-вестница, кричащая о приходе неведомого, но не сулящая опасности…
Видел Мгамба, укрываясь в кустах: величаво и достойно приблизились старейшины к сидящим у подножия священного камня мохнорылым, наклонили головы, приложили левые ладони ко лбам, приглашая к беседе по праву хозяев, чей дом ближе…
На том бы и перестать Мгамбе глазеть!
Ведь не старейшина же он, да и подарка все еще не добыл к началу торжества…
Но любопытная юность, и как оторвать юнца от зрелища?
Видел Мгамба: поговорив, поприкасавшись ладонью к ладони, подошли старики вслед за старшим из мохнорылых к укрытой тканями повозке, приподняли край покрывала и заглянули туда. А затем сказали нежданным гостям нечто и, повернувшись, побрели туда, откуда пришли. Мохнорылые же, видно, получив дозволение, двинулись за ними, все такие же строгие, неспешные, и только глупый оол по-прежнему мотал лобастой безрогой головой.
Один лишь юноша задержался у священного камня.
Снял он с плеча лук, согнул, натянул тетиву.
Передвинув с бока на живот колчан, выбран стрелу.
Натянул, заведя левую руку далеко за ухо…
И услышал Мгамба, таящийся неподалеку: грозный ровный гул возник между Твердью и Высью, тяжелый, густой, давящий, многоголосый, словно в хор воинов, затянувших боевую песню, с каждым мигом вступали все новые и новые голоса мужчин, подходящих к воинскому костру…
И вспыхнул костер в небесах!
Алая чудо-стрела, стрела-война, вознеслась в сияющее небо края Дгаа, призывая всех видящих знать, что явилось на мирную землю вечных гор злое лихолетье…
Замер на миг Мгамба. Ведь ни разу за долгую жизнь, за все свои восемнадцать лет не доводилось ему видеть в небесах стрелу-войну, и лишь старики у костров рассказывали порой, как бывало это на самом деле, но рассказы мудрых, хоть и захватывало от них дух, походили больше на сказки.
А потом помчался Мгамба в поселок, не щадя ног.
Не разбирал он путей, не выискивал стежек, упал дважды, больно ушибив колено, но не замечал Мгамба боли, так спешил любопытный парень успеть в Дгахойемаро раньше старцев, ведущих мохнорылых, так хотел узнать поскорее, что же такое стряслось в Тверди!
И он опередил их, идущих степенно!
И многие опередили.
Так что к моменту, когда Остап, вуйк рода Мельников, вышел на круглую площадку в самом центре поселка горных дикарей, он был весьма удивлен и даже озадачен. Как их, однако же, много…
Но недостойно посланца проявлять удивление, как, впрочем, и всякие иные чувства, кроме тех, которые поручили ему донести до слуха тех, к кому послан.
Поэтому вуйк Остап, движением бровей повелев парубкам оставаться на месте, ухватил покрепче недоуздок солового оола и потянул его в центр площади, где подле неугасимого костра стояло с полтора десятка седых дедусей, обнаженных по пояс, а чуть впереди их, гордо откинув голову, — гарная дивчина в странного вида монистах да коротковатой, на взгляд достойного унса, юбчонке. Эх, всем взяла та дивчина! Так хороша была она, до того черноока да черноброва, что на короткий миг позабыл вуйк Остап и о почтенных годах своих (ох, лыхо-лышенько!), и о посольском достоинстве. Подбоченился он, приосанился, пристукнул каблуком так, что чуть со степенного шага не сбился, да, хвала Незнающему, вовремя устоял.
Не про него та краса была, не на него та стать выходила; и засумувал было вуйко Остап, да тут же и опамятовался; нет, не взял бы он, пожалуй, в хату свою такую красу писаную ни жинкою, ни свойкою, и сынку бы не велел с такой хаживать! Ишь, как выпятила титьки… а титьки-то, глянь, голые! У-у-у, стыдобища! Да разве ж такая сможет хату блюсти?..
Только вспомнив о хате, вуйк рода Мельников окончательно осознал, где он и зачем.
Не было больше у него хаты. Сожгли родную хату враги, едва ль не всю семью сгубили. Теперь одна жинка у вуйка Остапа — верная карабеля, один сынок — дальнобойный, в своей, тож ныне сгоревшей, кузне сработанный «брайдер», одна-единая мечта: извести проклятых во-ргов, чтоб и духу их не осталось тут, на Валькирии!
Суровым стал вуйк Остап, и речь начал сурово, не развозя грязь по половицам.
Да и о чем было говорить долго? Пусть знает дивчина-вуйк и старики горные, что встретили унсы в лесу чужих, с равнины пришедших; убили пришельцы двоих горцев и над телами их надругались не по-людски. Унсы, ясное дело, такого стерпеть не смогли, не зря ж который год в мире и дружбе с горными живут. Ото ж! Убивцев покарали унсовские хлопцы там же, на месте. В великом гневе были молодые, вот и не догадались взять живьем, порасспросить. Но место это не столько далеко, и все там оставлено, как было. Ни поганых трупов хоронить хлопцы не стали, ни одежку их скверную не забрали. Пускай все гниет! А тела погубленных горных — вот они, прибраны, доставлены с должным береженьем, чтобы ни зверь какой, ни птица, ни красный муравей над бедолагами не надглумились сверх того, чего уж не исправить…
Выверяя каждое слово, рассказывал вуйк Остап. Все, как было, без лишних украс. И завершил достойно:
— Унсы — друзья горных. Горные — друзья унсов, — он говорил на странной смеси лингвы и местных наречий, помогавшей объясняться с дикарями во время торга. — Так было, пусть так и будет. За кровь горных уплатили унсы злым, как могли. Если злые придут с равнины к горным брать цену за кровь своих, унсы встанут рядом с горными. Так заповедал Незнающий. Так порешил вуйковский сбор. Я все сказал!
Глядя в умное бородатое лицо нестарого еще мохнорылого, Гдламини чуть склонила голову. Не все ей было пока еще ясно. Но мертвые тела говорили сами за себя. Разве принесет убийца тело убитого в родное селение? Разве станет спасать его от лесного зверья? Она, конечно, пошлет воинов туда, где случилось злое дело. Пусть посмотрят, пусть расскажут. Но краткая честная речь пришельца понравилась ей. Если и впрямь отомстили мохнорылые за людей дгаа, значит, им можно верить. Такие друзья — хороший посох в пути…