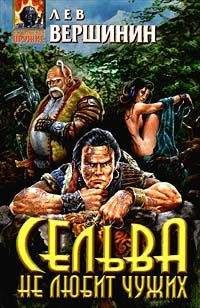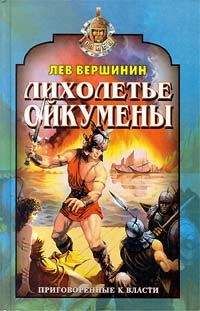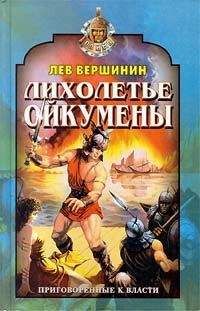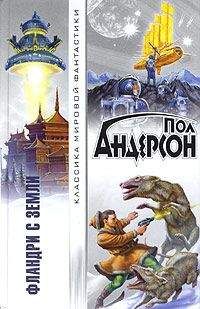Лев Вершинин - Сельва умеет ждать
— Я сделал их всех. Слепил вот этими самыми руками. — Старец с некоторым удивлением осмотрел свои худые, покрытые пятнышками старости ладошки. — Даже Эдика Гуриэли. Хотя он с самого начала был сам по себе, и поэтому его здесь нет. И не будет, хотя заказы случались. Но уж Молдавана-то я выстрогал от начала до конца, как папа Карло. — Он на миг запнулся, сопя все громче, с неприятным клокочущим присвистом. — Взял чушку и вывел ее в пла-не-тар-ны-е головы. А чушка так и осталась чушкой. У-у, кр-рыса…
Взметнулась и опала мохнатая кисть шелковой академической шапочки. Сухой твердый кулак вонзился под дых бронзовому Руслану Борисовичу, и статуя, натужно крякнув, согнулась пополам, сжимая ладонями живот.
— О-о-о-охх-х…
Седоусый зажмурился. Он никогда особо не сетовал на нервы, а кое-кто не без оснований считал, что у него вообще нет таковых. Но сейчас Тахви замер, до отказа вжимаясь в мерцающую стену. И никто не посмел бы его осудить, ибо Александр Анатольевич был в этот момент по-настоящему страшен. Во всяком случае, всему, что о нем рассказывали знающие люди, Тахви верил отныне полностью и безоговорочно.
— Этим козлам уже мало нормального лавэ. — Хозяину стоило невероятных усилий сохранять видимость относительного спокойствия. — Им нужно уважение. — Последнее слово старец произнес как грязное ругательство. — А потом им понадобятся гимны и флаги. Ради этого дерьма они угробят космофлот. Если уже не угробили. А потом устроят Четвертый Кризис, опять развалят все к чертовой бабушке и сядут дирижерами на своих петушатниках. Плавали, знаем. — Он криво усмехнулся. — Но эта Галактика распадалась уже не раз и всегда срасталась по новой. Иначе просто не может быть. Только на этот раз стрела выйдет еще мокрее, чем раньше. И Центр будет уже не на Земле…
Теперь он кричал, не пытаясь сдерживаться, на пределе туго натянутых связок, словно обращаясь к многотысячному скопищу слушателей; шапочка свалилась с седой макушки, коротко подстриженные прядки некогда курчавых волос, взлохматившись, серебристым нимбом стояли над головой, и в безумно расширившихся зрачках полыхал ветхозаветный огонь.
— Многие считают меня исчадием ада, и они таки правы — если я и ангел, то уж точно не божий, и не мир я принес миру, но меч! Я заработал свои креды, как умел, и я защищал свои. креды, как получалось. Мне нечего стыдиться! Но я — землянин в пятом поколении. На Старопортофранковской до сих пор стоит дом, где я родился, и в левой парадной по сей день написано на стенке: «Алька дурак». На свои грязные креды я восстановил Лондон, Вену и треть Истанбула, разве этого мало? И я хочу, чтобы центр Галактики был тут, на Земле, а не на какой-нибудь Чечкерии!
Он захлебнулся криком, перевел дух и завершил уже гораздо тише:
— Слышите, вы?! Я, Алеко Энгерт, этого желаю, а значит, так тому и быть…
Шторм, кажется, угасал.
Мясистые ноздри все еще трепетали, но жутковатое сопение понемногу стихало, а из глаз быстро улетучивалась розовая дымка. Так что, когда гость, переждав еще чуток, решился выглянуть из-за квадратной, покрытой потеками патины спины носатого мужика в лавровом венце, Александр Анатольевич был уже вполне в себе и, озабоченно хмурясь, разглядывал окровавленные, стремглав опухающие костяшки пальцев.
Впрочем, приближение гостя он уловил не глядя.
Закряхтел, виновато улыбнулся и спросил — доброжелательно, но отрывисто, неумело скрывая смущение за грубоватой фамильярностью:
— Короче, браток, что тебе нужно?
— Люди, — мгновенно ответил Тахви.
— И только? — прищурился господин Энгерт.
— Только. — В голосе седоусого не было ни тени сомнений. — Все куплены. Везде. В Администрации. В Компании. У Смирновых и то был прецедент. Понимаете? У всех патриотизм в глазах, а верить нельзя никому. — Он помолчал. — Ну, может быть, кому-то и можно. Но я таких не знаю. А мне нужны именно такие. И быстро.
Старец поплотнее запахнулся в халат.
— Всем нужны именно такие, — уже вполне миролюбиво пробурчал он, отходя к гобелену. — Видишь, Фриц, что творится?
— Ja, ja, — мрачно отозвался вытканный великан, наливаясь плотью и неловко комкая в кулаке поспешно сорванную корону. — Natbriich. (Да, да… естественно (нем.)).
— Ты вот тут ваньку валяешь, часа своего, понимаете ли, ждешь, а там, наверху, гопники вконец забеспредельничали. — Старец задрал голову. — Ну что, alter Kamerad (Старый товарищ (нем.)), как насчет поработать?
В светлых арийских глазах величайшего из Штауфенов полыхнула сталь.
— Es ist hoechste Zeit, mein Goenner. Immerbereit. (Давно пора, повелитель. Всегда готов (нем.)).
— Вот и хорошо. Готовь ребят.
— Jawohl, mein Herr, (Так точно, мой господин (нем.)) — радостно прогудел гигант и вновь развоплотился, успев, однако, расправить и нахлобучить на огненную гриву зубчатый головной убор.
— Хорошо. — Хозяин обернулся к гостю и с силой провел сухонькой лапкой по лицу. — Будут тебе верные люди на первое время. А кстати, у тебя-то есть кем дырки затыкать? Живые остались?
— Двое, — хмуро сказал Тахви.
— Надежные?
— Да. Один в СИЗО, другой в бегах.
Челюсти господина Энгерта дрогнули, отчетливо скрипнув бюгелями. Ноздри его вновь напряглись, издав уже знакомое Тахви нехорошее сопение.
— В-СИ-ЗО? — крайне отчетливо переспросил старец. — П-по-че-му-в-СИ-ЗО?
— Говорят, унитаз украл.
— А-с-суд?
— Вот суд и говорит, что украл.
— А-т-ты?
— А у нас, — столь же отчетливо вымолвил Тахви, — де-мо-кра-ти-я. Пр-равовое государ-рство.
Истовая, любовно выпестованная ненависть, явственно звякнувшая в интонациях гостя, как ни странно, подействовала на хозяина благотворно.
— Второго надежно спрятал? — уже спокойнее спросил он.
— Вполне. Но он и от моих сбежал.
— Ну? — удивился хозяин. — Колобок, однако… Что так?
— Не верит никому.
— Правильно делает, молодец.
Господин Энгерт вынул из обширного халатного кармана матовый пузырек, вытряс пилюлю, забросил под язык.
— Хочешь? — спросил он, потирая левую ключицу.
Тахви кивнул. И неловко улыбнулся, возвращая склянку. Он не любил вспоминать, что у него есть сердце. Это расхолаживало.
Чудной стариковский брудершафт разрядил напряжение.
— Ну, вроде все порешили, ничего не забыли?
— В общем, да.
— Что, есть вопросы? — насторожился хозяин.
— Есть, — признался гость. — Но не по делу.
— Валяй!
Тахви покашлял.
— Александр Анатольевич, вы ведь вошли в историю как великий прагматик. А здесь, — он выразительно мотнул головой, — сплошная экзотика. Даже с перебором. Вам как, не жмет?
— Разве? — Господин Энгерт не без удовольствия похихикал, словно бусинки рассыпал. — Как по мне, так все по понятиям. — Еще один дробный смешок раскатился по гранитному полу. — Откровенно сказать, мне, старому, думается, что это там, — повторяя давнишний жест гостя, тощий старческий палец вознесся к своду, — у вас, наверху, сплошная фантастика…
Одернул халат. Посерьезнел.
— Все, браток. Ступай с богом. Жди. И, не глядя, бросил через плечо:
— Фриц! Проведи гостя к калитке…
…Путь назад, странное дело, оказался длиннее. Переходы сделались извилисты, радужное марево исчезло. В полумраке трудно было разглядеть потолки и стены, но гостю казалось, что коридоры стали ниже, уже, древнее, что ли… из невидимых ниш тянуло волглой сыростью, а за минуту-другую до того, как впереди неясным пятном забрезжил выход, в лицо неприятно пахнуло жаром, и голос, отнюдь не лишенный некоей замогильности, уныло сообщил:
— И в сороковой раз повторю, и еще сорок раз не устану повторять: не будь я Кашкаш, сын Маймуна, кабаки и бабы неизбежно доведут тебя до цугундера, о многомерзопакостный Али-Баба…
Приостановившись, седоусый вопросительно уставился во мглу.
Продолжения не последовало.
— Бар-рдак! — пожав плечами, внятно произнес Тахви. — Дожили! И здесь бардак.
Тьма стыдливо помалкивала. А если что и сказала вслед, то гость, выползая из узкой расщелины, не удосужился расслышать.
Яркий свет и звонкий мороз обрушились сразу, единым махом. Вечные Альпы скалились вокруг, отвесная белая стена высилась позади, а неподалеку, натужно вращая широкими лопастями, урчал маленький желто-голубой вертолет. И рыхлый старик-пилот, выглядывая из кабины, кричал удивительно молодым, звонким тенорком:
— Когда назад, шеф?
— Уже, — сказал Тахви, стряхивая снег с полушубка. И, мельком поглядев на хронометр (четырнадцать пятьдесят три), хмыкнул. Судя по всему, в этих местах даже время сошло с ума. Конкретно.
Где-то на равнинах. 4 июля 2383 года.
Жизнь, конечно, штука капризная, и раз на раз не приходится.
Но.
Если прелестным июльским утром, когда свежая зелень листвы с обаятельной беспардонностью возжелавшего белокурую гимназистку портупеи-прапорщика лезет в распахнутое отнюдь не для нее окошко, когда напоенный солнечными лучами ветерок, мимолетно пробегая по прозрачной занавеске, напоминает о приятной близости звонкоструйного ручья, а в заполошно шелестящих кустах, заходясь от восторженной тоски, лепечет признания расцветающей розе бестолковая хохластая пичуга… так вот, друзья, если в такое дивное утро вас будит не требовательное прикосновение нежных девичьих пальчиков к сколько-то отдохнувшей плоти, а красная точка лазерного прицела, целенаправленно ползущая к переносице, — можете не сомневаться, это не к добру.