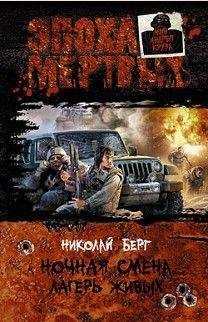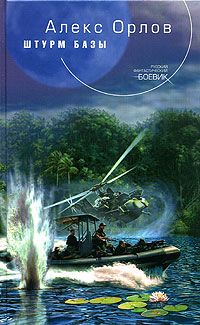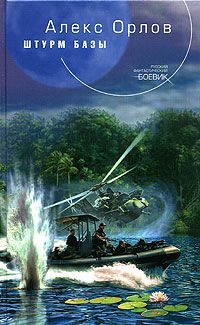Николай Берг - Лагерь живых
Вчера он все же дорыл погреб. Уже в темноте сбил щиты и худо-бедно облицевал вырытую яму. Получилось преотвратно. Теперь ломило все тело, мышцы ныли, и в придачу не спалось. Одна радость, что в честь свадьбы Ирка устроила ему роскошный минет.
С утра решили поехать на озеро за льдом, а по дороге дать крюка и заехать в нежилую уже деревню Ольховку. Это тоже угнетало. Одно дело — чистый и красивый сюрвайв. И совсем другое — банальный крестьянский труд, тяжелый, постоянный, ежедневный — с утра до вечера, и малопродуктивный — Виктор прекрасно понимал, что у него, горожанина в третьем поколении, самые простые крестьянские дела пойдут совсем не гладко. Да и по инвентарю он получался самым убогим бедняком. Ни курочки, ни порося… курям на смех.
Но самое противное было сознание того, что Ирка кругом права. Почему-то захотелось привычного «в прошлое время» с утра яйца всмятку со свежим подогретым ржаным хлебом и душистым сливочным маслом. Вместо соли Виктор всегда использовал приправу «Подравка», и сейчас он буквально почувствовал аромат.
На складе был яичный порошок, топленое масло. Даже «Подравка» была. И муки достаточно. Но все это не то. Свежие продукты нужны. А вот мясом они что-то уже наелись. Не хотелось. Даже думать было противно.
Бесконечное ворочанье с боку на бок, в конце концов, разбудило Ирку. Она проснулась неожиданно бодрой и свежей. «Черт, как быстро бабы восстанавливаются», — с неудовольствием подумал помятый Виктор.
Собирались недолго. Выехали — еще темно было, и свет фар контрастно освещал словно вырезанные из бумаги силуэты деревьев.
Виктор вел аккуратно, и, когда фары высветили повалившийся штакетник в сухом бурьяне, было все еще темно.
Ольховка когда-то считалась небедной деревней в два десятка крепких домов с грамотно продуманными подворьями. Сейчас целыми в ней оставалось два дома. Еще три стояли в полуразваленном состоянии, а от остальных и фундаментов толком не сохранилось.
Последняя жительница, бабка Арина, была знакома и с Витькой, и с Иркой — они у нее останавливались по дороге к бункеру. А то и жили, пока бункер был совсем в начале постройки. Хорошая бабка, скуповатая, кособокая, с изломанными ревматизмом суставами, но веселая и неунывающая, со светлыми голубыми глазами. Три года назад она померла, отравившись угарным газом. Экономная бабка была и дрова берегла, вот и поторопилась закрыть вьюшку. Нашли ее через месяц какие-то шалые лыжники, которых сюда занесла нелегкая.
Погода стояла холодная, тепло от печки выдуло, избу проморозило, и бабка, доползшая перед смертью почти до двери, сохранилась неплохо, хотя запашок стоял, конечно, сильный.
Ее похоронили в райцентре — родственники какие-то нашлись, причем быстро, а дом простоял полгода с открытыми окнами и дверью. Потом кто-то все ж заколотил окна досками, и, проезжая мимо, Виктор с Иркой убеждались, что так никто сюда и не ездил.
Теперь Ирка настояла на том, чтобы осмотреть оба дома и, по результатам, переселиться сюда.
Не сговариваясь, решили начать с другого дома, не с того, где жила покойная.
* * *— Заходи, будет время. Поговорим. Покурим, — говорит мне пулеметчик на прощание.
— С удовольствием, — отвечаю.
Николаич заходит на равелин и рассказывает первому номеру, что тому удалось зацепить морфа дважды — причем в первый раз на лету. Во время прыжка. Последними пулями той самой длинной очереди попал еще раз. В итоге морф оказался с перебитой… ногой? Или уже все же задней лапой? Дальше морф пошел по кромке льда, переплыл промоину и пытался укрыться на «Летучем голландце», где у него было что-то вроде гнезда. Но не успел добраться, его засекли сквозь стекла и достали. Причем в основном — опять-таки «Гочкис».
Пулеметчик нельзя сказать, что радуется. Да и Николаич выглядит вовсе не счастливчиком. Я понимаю, что магический круг воды, отпугивавший нежить, дал сбой. И морф в придачу ко всему еще и плыл… Он пока единственный такой. Но ведь нет никакой гарантии, что и другие не найдутся.
Спать уже не получится. Ставим стол, Николаич начинает по свежим следам писать рапорт и предложения по укреплению обороны. Мне тоже надо накропать бумагу для умасливания Михайлова. Остальные валятся досыпать — еще время есть. Но что-то ворочаются сильно.
Правда, не верю я в то, что мой рапорт Михайлова утешит в любом случае. Ситуация действительно хреновая. Пишу обтекаемо, придерживаясь канвы сляпанной долговязым омоновцем версии.
Искренне надеюсь, что лампа-переноска не очень мешает компаньонам. С улицы нас все равно не видно — окна завешивают тяжелые полотнища — мы обзавелись кроме раздвижных щитов с бронькой и тканевой защитой. Раньше-то было немного стремно — по освещенным окнам стрелять удобно, а мы тут как рыбы в аквариуме видны.
Оказывается, задремал сидя за столом. Будит Николаич. Выглядит он паршиво, отеки заметны еще больше, чем обычно. Пора идти на утреннее собрание. С нами увязывается и командир из ОМОНа.
В здании гауптвахты все по-старому. Здороваемся. С нами здороваются.
Опять же мне первому и выступать. Рапортую, сколько и каких больных медпункт принял. Делать это просто, по моему настоянию завели журнал приема больных. До полноценных карточек пока руки не дошли, но у работников Монетного двора они уже есть, так что неплохо бы и остальной постоянный состав охватить.
— На хрена нам эта бухгалтерия? — спрашивает майор.
— Ну, мы ж собираемся вроде жить?
— Собираемся.
— Значит, будем и болеть. Когда знаешь, что с пациентом было, лечить проще.
— Это как раз понятно, — неторопливо говорит Овчинников.
— Давайте сразу перейдем к вечернему инциденту со стрельбой, — замечает Михайлов.
За дверью какая-то шумиха, пятясь спиной вперед, вваливается стоявший там часовой, буквально вдавленный небольшой толпой. К своему неудовольствию, замечаю знакомые рожи, которые бы с удовольствием не видел век: журналисты, привезенные сюда нами же; вчерашний господинчик; несколько незнакомых, но решительных и мрачных молодых лиц.
— Петр Петрович, это что? — удивляется несколько картинно Овчинников.
— Это — представители прессы и общественности, — отчетливо поясняет господинчик.
Держится он уверенно, да и говорить, судя по всему, горазд. А еще мне кажется, что он точно из той породы, которым ссы в глаза — все божья роса.
— И что же, собственно, вам нужно?
— Вчера было совершено умышленное и сознательное убийство, и мы требуем, чтобы было расследование проведено как должно. И виновные, как преступница, так и покрывающие ее негодяи, понесли заслуженное наказание! — Это выпаливает та самая пигалица.
— Мило, — замечает Николаич, — и вы уже, несмотря на так долго восхваляемую презумпцию невиновности, все знаете и преступников назначили?
— Случай совершенно ясный, — безапелляционно заявляет пигалица.
— Замечательно, — невесело ухмыляется Николаич, — у вас, надо полагать, богатый опыт?
— Прекратите пикировку, — обрезает Овчинников, — давайте к делу. Доктор, начраз, Михайлов, потом выслушаем тех, кто в этом немного больше нас понимает. Гости из смежного министерства здесь?
— Здесь! — привстает маленький омоновец.
— Вы провели свое расследование?
— Точно так.
— Хорошо. Давайте тогда по порядку.
Помня, что язык мой сейчас должен быть укорочен по самые гланды, чтоб не ляпнуть чего ненужного, сухо и кратко докладаю о том, что вчера видел. Максимально сухо. Николаич дублирует так же. К моему удивлению, и Михайлов не шибко распространяется о своих подозрениях. Правда, упоминает, что перевязка была сделана небрежно, а мы оставили раненого на попечении его друга, явно не учитывая того, что раненый и помереть может.
Вижу, что господинчик что-то шепчет писюльке на ухо, потом что-то вкручивает стоящему рядом с ним парню. Явно он дирижирует, но сам вперед не лезет. Писюлька прямо рвется в бой, но терпит, пока не выскажется омоновец.
Тот высказывается — зачитывая бумажонку суконным голосом. Текст, надо заметить, еще хуже — уши вянут. Но вот что хорошо — в бумажке совершенно недвусмысленно излагается версия нападения покойного на медсестру с сексуальными целями.
— Мне кажется, что инцидент исчерпан, — заявляет Овчинников, строго глядя на вломившихся.
— Как бы не так, — горячо заявляет журналистка.
Начальник крепости поднимает вопросительно бровь.
— Да, у меня есть точные данные, что это было невозможно!
— И почему?
— Потому, что убитый был нетрадиционной ориентации! Он был геем! И это всем известно! Кстати, нас сюда прислали из Кронштадта, и вы ничего не посмеете с нами сделать! Мы видим, что вы сговорились вместе с ментами, но повторяю — мы под защитой!
Слышу краем уха, как маленький омоновец тихо говорит приятелю: «Ну вот, понеслась… как негры в Америке… только потому, что черный».