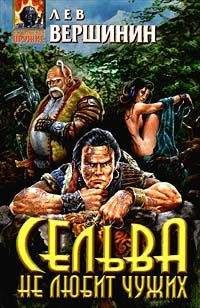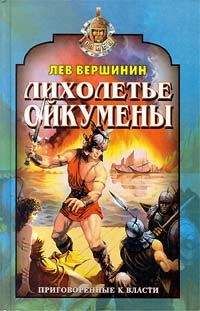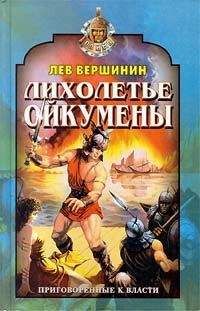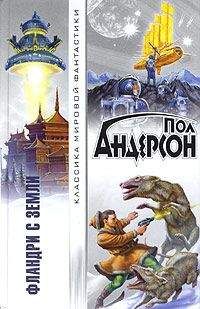Лев Вершинин - Сельва умеет ждать
— Как… Как…
— Мвинья? — предположил Дмитрий.
— Мвинья! — радостно подтвердил отважный Барамба. — И…
Глаза его внезапно округлились, а губы посерели, словно высушенная на солнце шкура болотного клыкача.
—Мвинья…-повторил двали.
Что такое?
Дмитрий резко развернулся и похолодел.
В густой зелени тускло мерцали две багряные точки…
А потом с ветвей прыгнула смерть.
…Он был стар, этот леопард. Так стар, что ни единого черного пятнышка не осталось уже на некогда солнечно-рыжей, а ныне голубой от седины шкуре. Несколько дней тому очередной юный мвинья, неопытный, а потому и наглый, осмелился бросить Хозяину сельвы вызов. Такое случалось и раньше. Но этот оказался сильнее прочих, а может быть, просто сельва пожелала сменить господина.
И победитель ликующим ревом оповестил округу о своем воцарении, а побежденный бежал, постыдно поджав хвост.
Жалобно мяукая, словно котенок, наказанный матерью.
Прочь из обжитых угодий, отныне принадлежавших не ему.
Оставив новому владыке нахоженные охотничьи тропы, и водопой, и юную самку, возбужденно следившую за поединком…
А потом, уже в глубокой чаще, остановившись наконец и вылизав раны на боку, старик услышал негромкое, словно из-под прелой травы доносящееся урчание. Тта'Мвинья, Великий Леопард, Праотец Пятнистых, напоминал потомку, что нет ни стыда, ни беды в поражении, ибо ничто не вечно под двумя лунами, сияющими в Выси, и каждому в свой черед приходит время уснуть…
Не дали!
Двуногие…
Злые, мерзкие, отвратно пахнущие…
Вернули. Разбудили. Остановили на самом пороге.
Ну что ж, так тому и быть: старый мвинья отведает напоследок жаркой крови.
Тем слаще будут сны!
Гибкое голубовато-сивое тело летело стремительно, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы.
Кто способен остановить стрелу в полете?
Никто!
Но храбрый сержант не зря хвалил смелого парня Барамбу из далекого селения Ярамаури.
Юнец успел…
Серая смерть, едва задев нгуаби, подмяла метнувшегося наперерез мальчишку. Какой-то миг Барамба еще пытался бороться, но почти сразу ноги его вытянулись и мелко затрепетали.
Хищник, рыча, терзал жертву.
Толстый хвост вращался перед глазами, словно обрывок лианы на осеннем ветру. Дмитрий ухватился за него, рванул, но громадная кошка то ли ничего не почувствовала, то ли попросту не сочла нужным обернуться.
Къяхх!
Мать твою, где къяхх?!
Подхватив с травы топор, дгаангуаби рубанул лунообразным лезвием по крупу, поросшему жесткой шерстью.
Ужас Сельвы взревел от боли.
Жарко дыша, к Дмитрию развернулась окровавленная морда с оскаленными клыками-кинжалами…
Некогда мвинья легко одолел бы и полдесятка двуногих.
Но теперь он был стар.
И Мтунглу-тень, сплетясь из воздуха, отчаянным прыжком взвился на хребет зверя и оседлал его, как норовистого нуула.
Йехуу!
Широкий ттай сверкнул россыпью солнечных брызг и почти по рукоять вонзился меж лопаток. Еще раз!
Еще!
Хищник яростно взвыл, опрокинулся на спину, забился, судорожно царапая воздух когтистыми лапами. Потом изогнулся. Затих.
И мудрый Мкиету, бесшумно приблизившись, легким касанием ладони затворил стекленеющие очи седого зверя.
— Спи, Владыка. Ты хорошо ушел…
Уважительное понимание было в голосе мудрого Мкиету, ничего больше. Разве что крохотная толика Дда 'Ббуту, светлой зависти. Кто из стариков не пожелает себе такой кончины?
— Спи и ты, дгаабуламанци. Сельва не забудет тебя… Узкая коричневая ладонь коснулась окровавленного чела Барамбы, лежащего рядом с тушей мвиньи, и лицо юного Бимбири из Окити-Пупы, защищавшего в этом бою спину старца, передернуло гримасой Мдга 'Ббуту, зависти темной.
Все, даже священные бусы отдал бы сейчас ловкий Бимбири за счастье лежать на всклокоченной траве вместо Барамбы!
Разодрано его горло, вырваны когтями глаза и жутко пузырится на устах розоватая пена — ну и что? Зато дух его уже спешит по Темной Тропе к престолу Тха-Онгуа, к обильным пирам и пышногрудым девам, минуя все препоны, предназначенные для обычного человека дгаа…
Зависть — великий порок. Но Мкиету, знающий жизнь, не сердится на глупого юнца. Ведь и впрямь, никому не дано жить вечно. Вторична Твердь и первична Высь, что бы ни болтали бородачи из полночных болот, и смерть гранит камни для венца жизни… Можно понять Бимбири. А поняв, простить.
Впрочем, двали из Окити-Пупы уже овладел собой. Ие!
Спору нет, почетно и славно ушел храбрец Барамба, и сложат о нем сказания, и споют песни. Но! Хочется ли Бимбири лежать на траве с разодранным горлом и вырванными очами?
Нет.
Не хочется.
Йе!
Много жарких боев впереди, много славных подарков. Кто знает, быть может, в один из дней он, отважный Бимбири, тоже спасет великого нгуаби? Обязательно спасет! Но, ловкий и шустрый, останется в живых, и сам, своими ушами услышит, как мудрец Мкиету скажет юному воину из Окити-Пупы: Бимбири, ты — дгаабуламанци, ты — гордость людей дгаа…
А бумиановая роща уже гудит возбужденными голосами.
Воины укладывают тела старого леопарда и юного Барамбы на скрещенные копья. Так положено провожать героев. А сержант H'xapo, исподлобья взглянув на Дмитрия, вскидывает плеть и семью гибкими хвостами крест-накрест перепоясывает Мтунглу.
Это несправедливо. Человек-тень нынче дважды спас бесценную жизнь дгаангуаби. Его не в чем упрекнуть. Но вожди неприкосновенны. А сержант в гневе. И Мтунглу снова и снова принимает удары, заслуженные Пришедшим-со-Звездой…
Впрочем, тень не чувствует боли.
Первой вражеской кровью умылся ныне Мтунглу, и три роговые чешуйки отпали сразу, а остальные свербят и зудят на оживающем теле…
Бей, бей еще и еще, доблестный H'xapo!
Но семихвостка свивается вокруг мощного запястья.
— Мы победили, тхаонги, — говорит Убийца Леопардов.
Дмитрий поднимается на ноги.
Надо бы ликовать. Но вместо радости — злость и обида. Он не оправдал доверия. Он опозорился.
Чего стоит командир, в разгар битвы таскающий кошку за хвост? За этакое из Академии отчислили бы в момент…
Но мудрый мвамби полагает иначе.
Как бы то ни было, Пришедшего-со-Звездой народу дгаа заменить некем. Так пусть же юные воины знают: первая победа принадлежит ему. Пускай верят: нет невозможного для великого, смело ухватившего за хвост самого Хозяина Сельвы…
— Ты победил, нгуаби, — поправляет сержанта Мкиету.
— Ты победил, — соглашается сержант.
— Хэйо! — единым дыханием выкрикивают двали. Дмитрий склоняет голову. Он не дурак. Он понял.
— Да. Я победил.
И, приложив ладонь ко лбу, добавляет:
— По воле Тха-Онгуа!
Котлово-Зайцево. 11 мая 2383 года.
(О причинах пребывания Кристофера Руби на Валькирии, его непростых отношениях с Нюнечкой, славном боевом пути подполковника Эжена-Виктора Харитонидиса, а также о сером берете, который не просто серый берет, и пегой свинке подробно рассказано в романе «Сельва не любит чужих»)
Нет, любезный читатель, кто бы что ни говорил, а я буду твердо стоять на своем: открытие театрального сезона в стольном граде Котлове-Зайцеве, старожилами любовно именуемом Козою, есть событие планетарного значения, а не какое-нибудь хухры-мухры, проводимое под обременительным патронатом очередной региональной Чебурашки.
Судите сами: еще крутились перед зеркалами, нанося последние необходимые штрихи, всполошенные предстоящим событием прекрасные половины отцов города, еще метались по заваленному обрезками ткани и выкройками полу «Истиннаго Кутюрнаго заведения Мадам Розалинды фон Абрамянц из Земли и Парыжу» раскрасневшиеся модистки и белошвейки, прикалывая к последним, на живую нитку склепанным заказам недостающую бутоньерию, а в центре Котлова-Зайцева уже было не протолкнуться — с трех часов пополудни к деревянно-матерчатой махине «Гранд-Опера» ото всех окраин подтягивались зеваки. Спокойные, полные сдержанного достоинства земляне-контрактники и пестрый, непонятно откуда взявшийся на планете поселковый сброд, благообразные крещеные нгандва со своими молчаливыми, закутанными в гугги женами, рудничные, заехавшие в Козу на предмет отовариться, и расконтрактованная шелупонь, утратившая достоинство настолько, что не брезговала уже вместе с туземцами копать канавы и укладывать шпалы, — короче говоря, все умеющее ходить, но не имеющее надежды попасть внутрь население, беззлобно переругиваясь, занимало места на траве перед шапито, чтобы поглазеть на съезд начальства и послушать, как будет веселиться элита.
Первые носилки, встреченные забубенным свистом и улюлюканьем, появились в начале шестого. А с семнадцати тридцати у парадного входа, охраняемого от безбилетников цепкоглазыми автоматчиками, кипел и не спешил рассасываться водоворот оживленных приветствий, учтивых поклонов, крепких рукопожатий, жеманных книксенов, многозначительных подходов к ручке, троекратных, крест-накрест, объятий, выверено четких отмашек головой, почтительнейших расшаркиваний, изысканных комплиментов, каблучного, со звоном шпор щелканья, кокетливых реверансов, целомудренных поцелуев в щечку и фамильярных похлопываний по плечу…