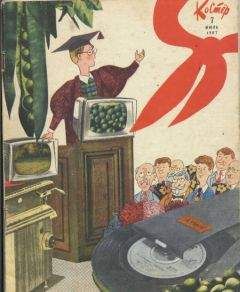Дин Кунц - Симфония тьмы
Всеобщая Церковь возникла лет за восемьдесят до того, как последняя война стерла с лица Земли традиционную цивилизацию. Веками разные вероучения мира пытались установить между собой связь; в конце концов они нашли свои отдельные пути к слиянию в одну религию, которая включала в себя большинство верований человечества. Всеобщая Церковь погибла в войне вместе со всем прочим, хотя фрагменты ее учения сейчас жили в Силаче. Он поднял старые знамена, прочитал старые слова, но почему-то сумел почерпнуть и воспринять из них только гнев и ярость, непримиримость и отмщение. Милосердие и доброту он оставил прошлому.
И теперь он видел свое чуть ли не божественное предназначение в том, чтобы сыграть главную роль в разрушении города-государства Вивальди. А затем, может быть, всех прочих городов-государств, жители которых вернулись со звезд, чтобы заковать в цепи материнскую планету. Он был отцом того, кто принесет изменения. Он видел в этом святую, божественную, предопределенную цель. В этом заключалась его мания. Исполнение плана — это добро. А все, что мешает осуществлению плана, неизбежно окажется злом. И какая бы то ни было романтическая связь между его сыном и этой девчонкой, Тишей, по его мнению, должна была отрицательно сказаться на боевой мощи Гидеона, быстроте его мысли и глубине ума. В самом деле, разве не может случиться, что за миг до решающего часа эта будущая леди убедит юношу повернуть против его подлинного народа, заставит действовать против популяров?
Но нужно ли убивать ее прямо сейчас? Немедленно? Проблема в том, что мальчик вырос в мире музыкантов. Он не поймет, что цель Силача священна и божественна. В конце концов, Гидеона учили поклоняться Владисловичу. Он язычник. Нет, устранение девушки придется отложить до более благоприятного момента, до того времени, когда Гидеон окажется настолько связан с революцией, что не сможет уже отказать в своей поддержке. А потом, когда Силач убьет девчонку, можно будет объяснить Гидеону-Гилу, что назначение его божественное и потому он не должен осквернять себя прикосновением к женщине. Именно так сказано в Семи Книгах: все великие пророки были целомудренны.
Ладно, ее можно уничтожить потом, позже. Она такая тоненькая. Просто хрустнет и сломается в руке… Внезапно Силач сообразил, что молчит слишком долго, и они смотрят на него с удивлением.
— Она красивая, — сказал он, пытаясь оправдать свои долгие раздумья.
Тиша не покраснела. Она знала, что красива, и не видела никакого смысла отрицать, что по достоинству оценивает себя.
— Благодарю вас, — сдержанно произнесла она.
— А где моя… моя мать? — спросил Гил-Гидеон.
Силач, кажется, смутился.
— О, ну конечно! Она спит. Она ждала тебя больше суток. Мы думали, ты придешь раньше. Но потом я догадался, что ты не можешь просто так вскочить и убежать в первое же мгновение.
Он ввел их через другую дверь, на этот раз желтую, в соседнюю комнату, где на чистой, хоть и расшатанной койке лежала женщина.
— Незабудка! — позвал Силач и потряс ее за плечо. — Незабудка, он пришел!
Его мать оказалась чуть ли не самой прекрасной женщиной из всех, кого он видел в жизни, красотой она лишь немного уступала Тише, хоть и была по крайней мере лет на пятнадцать старше. «Будь они одного возраста, — думал Гил, — может быть, Тиша и оказалась бы на втором месте после этой поистине великолепной женщины, конечно, если не считать…» Он разглядел перепонки у нее под мышками, ибо она была одета в тогу без рукавов, заметил и перепонки между пальцами. Может, именно этим перепонкам, напоминающим тонкие лепестки полевого цветка, обязана она своим именем? Нет, скорее глазам, ярким, как синие неоновые камни, и таким же сияющим.
Какое-то время они неловко переминались, глядя друг на друга, как маленькие ребятишки, которые решают, дружить им или нет. Но потом Незабудка порхнула в объятия Гила-Гидеона, плача, обнимая его, целуя влажными губами. Ему это не понравилось, но он тоже обнял ее и попытался во всем происходящем отыскать хоть какие-то намеки, которые помогли бы ему разложить все по полочкам и подсказать смысл, а главное — объяснить, как смогли эти люди дважды разрушить его жизнь и, судя по всему, ничуть из-за того не печалиться. Музыканты отправляют своих детей на арену, не особенно волнуясь, если половина из них погибнет. И эти двое мутантов, подобно им, отдали своего сына какому-то делу, тоже не задаваясь вопросами, что он будет чувствовать и что это будет для него означать.
В истории человечества, как ни мало он ее знал, было полным-полно философов, твердивших, будто отдельные жизни не столь важны, как те или иные идеалы. Они помогали запихивать эти идеалы в глотку молодым солдатам и походным маршем отправляли их на войну в разноцветной униформе, словно стадо разукрашенных макак. А когда солдаты не возвращались, те же самые люди, которые первыми подстрекали их (а сами оставались в своих уютных кабинетах корябать дальше свои мусорные, подтирочные пропагандистские сочинения), писали надгробные речи, восхваляли имена павших и снова твердили об идеалах.
Но много ли значат эти проклятые идеалы для любого солдата? Когда убитый валяется в грязи, гниет и черви выедают внутренности из его серой оболочки, может ли он находить возвышенную гордость в этих идеалах? Дадут ему идеалы возможность когда-нибудь снова посмотреть кино? Нет, не дадут, потому что у него лопнули глазные яблоки и вытекли на лицо. Тогда, может быть, идеалы помогут ему снова съесть праздничный обед? Нет, потому что у него выбиты зубы, а язык провалился в глотку и цветом стал как дерьмо. Поможет ли ему идеал, позволит ли, даст ли хоть один шанс заняться любовью с девушкой? Черта с два!
Во всей истории Земли не было ни одного идеала, за который стоило бы умереть. Потому что, как бы высок ни был идеал, его непременно испоганят и продадут. Время от времени появлялись серьезные конкретные причины для войн, связанные с экономикой или порабощением. Но даже такое случалось нечасто.
Одна лишь жизнь стоит того, чтобы за нее умереть, но это уже бессмыслица.
Вот так Гил и стоял — мать обнимала его, отец сиял улыбкой, а он чувствовал лишь холодную отстраненность.
И в эту минуту он внезапно понял, что ни один ребенок ничем не обязан своим родителям. Дети — просто конечный продукт страсти и проявленной в этот момент беззаботности или же, если это заранее запланированный ребенок, результат жажды бессмертия, стремления сохранить свое имя и славу для еще одного-двух поколений (а в случае музыкантов — просто результат выполнения гражданского долга). Родительские страсти, беззаботность, обязанность перед обществом никак не могут пробудить у детей ощущение долга…
В мыслях у него вновь бурлило замешательство. Даже стены этой комнаты казались чужими и далекими, они будто легонько покачивались, словно это был корабль в неспокойном море. Женщина, вытирающая перед ним слезы, представлялась ему всего лишь статуей, которая появилась на свет со всеми повадками и желаниями человеческого существа — кроме подлинной материнской любви. Ее Незабудка не имела.
Они дошли до конца коридора, где воронка от бомбы открывала вход в катакомбы под старым городом. Темнота в этих искусственных пещерах царила почти непроглядная, казалось, ее можно потрогать руками или налить в кувшин. Тишу они оставили с Незабудкой, а сюда пошли вдвоем. Гил был этому рад, ему не хотелось, чтобы девушка видела, как он трясется. Руки у него дрожали, губы кривились. Он почему-то боялся человека, который называл себя его отцом.
Прошло совсем немного времени, и он понял, что Силач — религиозный фанатик. Популяр непрерывно исторгал поучения и молитвы, почерпнутые из некоего источника, который он именовал «Семь Книг». Кажется, речь шла о какой-то мировой религии, существовавшей до Катастрофы, но Гил не был уверен, ибо о такой никогда не слышал, впрочем, его не особенно хорошо обучали земной истории.
Твердо он понял лишь одно — Силач хочет, чтобы он сражался за некий идеал. Прямо он этого пока не сказал, но течение беседы сворачивало именно в эту сторону. Он хотел призвать Гила сражаться за что-то там из этих Семи Книг, поднять оружие за верования, мертвые уже четыреста лет. А Гил не думал, что захочет и сможет. Это ведь все равно что присоединиться к музыкантам в кровавой войне против популяров — само собой, с благословения Владисловича. Нет уж, нечего рисковать жизнью всего лишь ради идеала. Ради чего-то практического — другое дело. Если бы Силач напирал на то, что с популярами обращаются как со зверьми, лишают прав на жизнь и достаточное место в мире, тогда он мог бы присоединиться к войне. Впрочем, даже в этом случае — не наверняка. Все было бы намного легче, если бы они пришлись ему по душе. Но такого пока не наблюдалось…