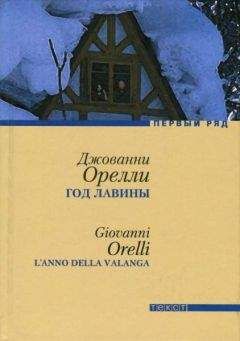Олег Верещагин - Будьте бдительны! Сборник рассказов
…Очень много это — двенадцать метров. Не перепрыгнуть. Никак.
* * *В бараке было темно.
Юрка лежал с открытыми глазами, глядя в тёмный пластик нар второго яруса.
Он слушал. Он не знал, кто это поёт, но кто-то пел в темноте и стонущей тишине барака — пел без сопровождения, ломким мальчишеским голосом. И строки песни были такими, что никто не кричал, не просил заткнуться — как это почти всегда было даже при тихих ночных разговорах. И это было тем более странно и даже дико, что ещё месяц назад никто — ну, почти никто! — из этих мальчишек, запертых в бараке на оккупированной земле, не стал бы слушать такую песню…
— Где ты, Родина,
Русых кос венок, материнское молоко,
Колокольный звон, в борозде зерно,
Сосны старые над Окой?
Где ты, Родина?
Ветер вздохами разговляется в тишине.
Труп твой высмеян скоморохами,
Имя продано сатане.
Тьму могильную не смогла заря
Солнцем выкрестить на куски.
Кто убил тебя, ясноглазая,
Да не дал отпеть по-людски?
Онемевшие кривы звонницы,
Нелюдь празднует — пир горой…
Нету Родины, мертвы вольницы,
Братья почили в дёрн сырой.
Юрка сжал веки. Сжал так, что заломило глаза. И почувствовал, как по щекам щекотно и горячо текут слёзы…
— Или с выселок тянет копотью,
Иль чумные костры горят?
Да стремниною далеко ладью
За моря несет, за моря…[4]
— Неужели — всё?! — простонал, сам того не ожидая, Юрка. И услышал слева шёпот — тихий и горячий:
— Тебя ведь Юрка зовут?
Юрка узнал голос новенького — ну да, кто ещё мог отсюда спрашивать? Но отвечать не стал. Во-первых — понял, что младший слышал, как он плачет. А во-вторых… во-вторых — пришёл страх. А если… ведь Юрка знал, что в каждом бараке есть провокаторы и доносчики. И не по одному.
— Ты ведь Юрка? — настойчиво шептал мальчишка. — Я знаю, про что ты думаешь… я не обижаюсь, но я не стукач, правда…
Смешно.
Смешно, но Юрка поверил этому настойчивому, немного обиженному, сбивающемуся голосу. И повернулся лицом в его сторону.
— Что ты хотел?
* * *До одиннадцати лет Серёжка Ларионов был уверен, что жизнь — штука хорошая.
Нет, в ней могло быть разное. Могли отлупить в драке. Могли случиться неприятности с уроками, после которых не хочется идти домой. Могло стать страшно ночью в комнате. Наконец, взрослые часто говорили о каких-то проблемах — не очень понятных Серёжке, но, конечно, реальных.
Но жизнь была штукой хорошей, несомненно. И папка — майор гарнизонной комендатуры, бывший десантник, перевёдшийся в Воронеж, чтобы не мотаться по стране с Серёжкой и только-только родившейся Катькой, младшей сестричкой, так и говорил, поднимая сына к потолку квартиры — когда возвращался со службы: «Хорошая штука жизнь, а, Серёга?!» И Серёжка со смехом кивал из-под потолка, потому что иначе быть не могло. В жизни были интересные книжки, интересные фильмы, друзья по секции бокса, школа (не такое уж плохое место), самые лучшие на свете мама с папой… ну и даже Катька, что уж…
Он понял, что — могло. Могло быть иначе. Но не тогда, когда отец буквально забросил их в кузов комендатурской ГАЗ-66 и, крикнув маме: «Не смейте искать, сидите в сторожке!» — побежал куда-то тяжёлой ровной побежкой, и мама заплакала, и Катька заревела, и Серёжка… а, что скрывать… Нет, не тогда. И не тогда, когда они в шумной, перепуганной, мечущейся колонне беженцев кое-как ехали — а потом, когда стало невозможно проехать, шли — по дороге на северо-восток. Нет, ещё не тогда.
Но потом налетели похожие на чёрные кресты машины.
Серёжка не любил это вспоминать. Они остались живы, потому что мама спрыгнула с дочкой в глубокую канаву, сдёрнула замершего на краю с открытым ртом сына — и притиснула детей к откосу, закрыв собой.
Вот так для Серёжки началась война, которая шла до этого уже несколько дней, но которой он не понимал и в которую не мог поверить, потому что происходящее в книгах и фильмах не может произойти в жизни.
Когда они вылезли из канавы — засыпанные землёй, оглушённые — мама тихо охнула и прижала к себе лицо Катьки. А Серёжка увидел. Увидел, что нет больше колонны беженцев. Горели машины — чёрным пламенем. Лежали сотни мёртвых людей — на дороге, по сторонам… А у самых ног Серёжки дымилась оторванная человеческая голова.
Потом они шли. Шли несколько дней, и все эти дни Серёжка — усталый, голодный, измученный — упрямо верил, что вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас… Вот сейчас будут наши. Наши, не может же не быть их — наших, не могли никуда пропасть все те люди, которых показывали в новостях, в кино, которое любил Серёжка — «Тайна „Волчьей пасти“», «Грозовые ворота», «Прорыв», «Атаман»… Они придут (и с ними придёт папка, конечно придёт!) и заставят заплатить тех гадов, которые сидели в чёрных машинах, похожих на кресты, зачеркнувших небо — и прошлую жизнь.
Так должно, должно было случиться! Потому что — ну потому что ведь не могут наши не победить! А враги… врагов себе Серёжка не представлял даже. То ли орки, то ли фашисты… и в любом случае — отец их победит!
Но наших не было. Была искалеченная, забитая растерянными людьми дорога. А потом — когда до цели уже оставалось недалеко — впереди Серёжка увидел идущие машины.
Их было много. Пятнистые, они шли по две в ряд, и люди разбегались с дороги. Огромные, бесчисленные, эти машины пожирали мир, как Лангольеры из книги писателя Кинга.
Тогда колонна прошла мимо. Но Серёжка, стоявший на обочине, видел даже цвет глаз сидящих наверху рослых уверенных солдат в серо-зелёно-коричневой форме, громоздкой, жутковатой броне, видел темные блики, на их оружии, таком же чужом, какими чужими были на светлой, солнечной лесной дороге врезавшиеся в теплый летний русский полдень и эти машины, и эти смеющиеся люди… Во всём увиденном была неправильность, страшная и наглая — в их молотящих жвачку челюстях (Серёжка и сам любил её пожевать), в задранных на каски большие очках, в том туристском выражении, с которым они посматривали по сторонам. Даже не хозяйском, а именно — туристском. Они пришли сюда не отобрать у русских землю, а испакостить её, посмеяться над ней — и покатить дальше на своих угловатых высоких машинах.
И кто-то из них кинул Серёжке — к тем самым ногам, возле которых за три дня до этого лежала человеческая голова — шоколадку со знакомой надписью «Марс».
И это было ужасно, хотя Серёжка не взялся бы объяснить — почему. Тогда он просто сжал кулаки и долго смотрел вслед последней машине — без мыслей и без слов.
В тот вечер они заночевали возле дороги, как и раньше. Серёжка проснулся заполночь, потому что кругом кричали и метались люди, светили прожектора, раздавались выстрелы… Мама затащила их с Катькой поглубже в густые кусты. Кого-то схватили прямо рядом с кустами, опять стреляли. Кричали дети, ревели моторы на шоссе, и всё было, как в страшном сне.
Потом кто-то, ругаясь на полупонятном языке, стал раздвигать кусты, где прятались Ларионовы. Серёжка ощутил, как сжалась и обмерла мама — и понял, именно в этот момент понял, что она сейчас не защита ни ему, ни Катьке. А… кто защита? Папка?
И тогда Серёжка шепнул маме: «Сидите тихо, понятно?!» — как будто она была младше его. А сам метнулся в сторону — так, чтобы побольше шуметь.
Мальчишку схватили сразу. Бросили наземь, и он увидел возле своего лица — не дальше руки — чёрный зрачок автомата. «Калашникова», но не такого, какой не раз видел и из какого даже стрелял Серёжка. На стволе играли блики какого-то близкого пожара. Рослый человек с закопченным лицом что-то полупонятно спросил. Подошли ещё несколько — смеющиеся, с клетчатыми значками на рукавах. И один аккуратно нанизывал на тонкую леску… человеческие уши.
Кто-то спросил Серёжку:
— Кто ти ест?
Ему было страшно. Ему было очень страшно. Но, поднявшись на ноги, мальчишка ответил:
— Сергей, — почти спокойным голосом. Краем глаза он видел, что в кусты больше никто не суётся — и это было главное… — Ларионов. Сергей.
— Ти ест мертвяк, — засмеялся тот, с ушами. А тот, что сбил мальчишку наземь, приставил к голове Серёжки свой автомат и крикнул:
— Айде, моля код жиче!
— Проси жит, — сказал тот, со страшным ожерельем. — Просит что хочеш жит.
— Реко се — моля! — озлобленно рыкнул целящийся в Серёжку. И мальчишка увидел, что палец его играет на курке, как заведённый. — Моля, сука правосьлавска!
— Нет, — сказал Серёжа.
Он сам не знал, почему так сказал. И хотел только одного — ну лишь бы мама… и Катька… И ещё знал, что папка — папка его поймёт.
— Моля!!! — взревел целившийся в него. Ударом приклада в спину сбил охнувшего мальчишку наземь, наступил ногой на грудь и приставил ствол ко лбу. — Моля, а?!