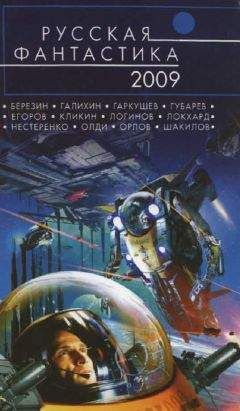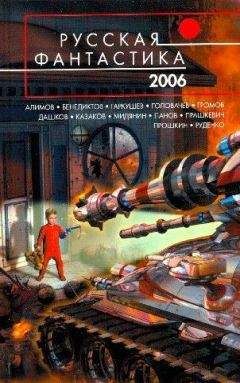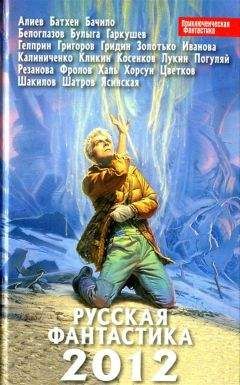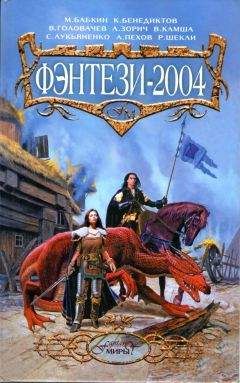Людмила Белаш - Русская фантастика 2010
— Не приставай, — пробормотал Игорь. Осторожно поднёс измазанную клеем мачту к гнезду в палубе. — Сейчас я её…
Лёшка отошёл, волоча за собой схему, зацепил нечаянно сваленные горкой детальки, и они с лёгким стуком посыпались на пол.
— Ты что делаешь! — рассердился Игорь.
Мачта покосилась в гнезде. Лёшка от испуга заревел, попятился к столу.
Игорь отвлёкся от кораблика и почувствовал неприятный запах, который уже заметил Лёшка. Мальчик потянул носом: пахло дымом. Он побежал в кухню — плита была выключена. Игорь прошёлся по квартире, принюхиваясь: нет, нигде ничего не горело. Но дымом тянуло всё сильнее.
— Лёшка, откуда пахнет? — Мальчик встряхнул зарёванного брата. — Чуешь? Дым! Да успокойся ты!
Но Лёшка только всхлипнул и рукавом вытер сопли.
— Не, — пробубнил он. — Кака!
Игорь подошёл к входной двери. Уходя, мама заперла её, а замок и снаружи, и изнутри открывался ключом; на всякий случай Игорь подёргал ручку. Из щелей и замочной скважины тянулись синие струйки, они расползались в воздухе, таяли, оставляя после себя едкий запах. Игорь приподнялся на цыпочки и заглянул в глазок: на лестничной клетке плавал слоистый туман.
«Горим!» — понял мальчик.
Он бросился в зал и, подтащив к окну табурет, залез на него. Лёшка, не понимая, в чём дело, хлопал слезящимися глазами и поворачивался вслед за братом.
— Кака! — твердил он, тыча пальчиком в сторону прихожей.
Игорь подпрыгивал, стараясь достать до верхнего шпингалета, однако дотянуться не мог. Вставать на подоконник было страшно. Мама запрещала: девятый этаж — не шутка, вдруг упадёшь! И хотя упасть можно было только на балкон, Игорь боялся.
Лёшка забился под стол: он кашлял и, хныча, тёр кулачками глаза.
— Хватит! — прикрикнул Игорь. — Успокойся давай, а то маме расскажу, что ты плакал. Балкон вон открою, проветрим комнату — сразу легче станет.
Дрожа от сознания того, что делает нечто запретное, Игорь поставил ногу на узкий подоконник. Вцепился в задвижку, потянул на себя. Та не поддавалась. Поднатужившись, Игорь рванул её — раз, другой… задвижка тяжело поехала вниз.
Мальчик слез на пол и отодвинул нижний шпингалет.
— Сейчас, Лёшка, — ободрил брата. Потянул дверь, но она будто примёрзла. Игорь схватился за дверь обеими руками и дёрнул изо всех сил. Захрустела бумага. Вдоль рам шла широкая желтоватая полоса — щели проклеивали на зиму, и ленту до сих пор не сняли.
Становилось жарко. У потолка стлался дым, на глаза наворачивались слёзы, в носу свербело. Лёшка плакал под столом, изредка кашляя.
* * *Жёлтые капли физраствора с мерным стуком падают в трубку, словно тикают. Дура-муха, жужжа, бьётся о стекло. За окном шумит улица; в приоткрытую форточку веет прохладой, и по ситцевой занавеске с дыркой в левом углу неторопливо ползают солнечные зайчики.
Там, где игла входит в вену, тепло и чешется. На тумбочке гладкие оранжевые шары — апельсины: пахнут, зверски возбуждая аппетит. Хочется есть — значит, проснулся. Значит, поправляюсь. И вообще — скоро буду здоров как бык, и душой, и телом. Не зря же я здесь, в больнице института психоневрологии.
Скрип двери. Поворачиваю голову и вижу Евгения Ивановича, за плечом доктора маячит Машка. Ну да, ни свет ни заря, а она уже тут — явилась к утреннему обходу. Опять заведёт свою песню.
— Ну, как мы сегодня? — Врач прижимает большой палец к моему запястью, глядит участливо. Добрый доктор Айболит, всех излечит, исцелит.
— Да уж не как вчера.
А с позавчера, когда я ложку мимо рта проносил, и вовсе не сравнить. Диагноз привычный: физическое переутомление и угнетение нервных функций. Признаки налицо: потеря координации и внимания, замедление реакций, тошнота, слабость, ну и прочее. Вялость, заторможенность, сбои в моторике. Полный джентльменский набор. Едва ли — тьфу-тьфу и постучать по дереву — не функциональное истощение нервной системы. Но, по обыкновению, быстро иду на поправку. Капельницы, питательные растворы, тонизирующее плюс витамины кого угодно поставят на ноги. Вопрос времени. Меня так в два счёта. Полежал недельку — и бодрячок.
— Это хорошо. — Доктор ласков и улыбчив, он задирает мне веко, всматривается. — А теперь покажите язык.
Послушно раскрываю рот. Мельком глянув, Евгений Иванович делает пометку в истории болезни.
— Заходите же, Мария Анатольевна, — обращается к Машке.
Но она, ясное дело, уже без разрешения присела на соседнюю пустую кровать. Глядит сосредоточенно, на худых острых коленях — вместительный пакет. Небось колбасы копчёной притащила, сервелат, нет бы нормальную, краковскую. Но Машку разве переспоришь? «Далась тебе эта дрянь! Не бедствуем, чай». А мне, может, нравится.
— Как он, доктор? — спросила жена, кладя пакет на стол и нервно сжимая пальцы, будто у неё мёрзли руки. — Сколько ещё лежать?
— Ну… — Врач полистал историю. — Скоро на выписку. Думаю, пара дней постельного режима с соблюдением всех назначенных процедур, и можете забирать. Дома — хорошее питание, отдых. На природу съездите, в деревню. Очень способствует.
Он вышел. Машка тут же пересела ко мне на кровать, уставилась выжидательно.
— Что? — спросил я.
— Давай переедем? И доктор советует. Уволишься — и проблем нет. Квартиру продадим, купим домик… огород свой, хозяйство. Приставать никто не будет. Давай?
Жена ткнулась сухими губами в щёку. Я улыбнулся.
— Тоже тебя люблю, — шепнул на ухо. — А переезжать не стану, не уговаривай. — Обнял, забыв о руке с воткнутой капельницей. Игла дёрнулась, и я скривился от кольнувшей боли.
Машка заметила, бросилась помогать. Нет уж, лучше сам: такую неумёху, как моя жена, ещё поискать. Хозяйство ей, домик — за коровой убирать надо; грядки пропалывать, поливать. Разве справится? Это она на словах бойкая.
Руку снова кольнуло: Машка пыталась вправить иголку.
— Погодь! — осадил я. — Аккуратнее, а то мимо пойдёт. — Однажды, помню, чуть руку не разнесло. Если б сестра вовремя не заскочила, ходил бы с дулей на локте.
— Олежка, да что ты, давай я!
— Одеяло вон поправь. Иголку сам.
Машка надула губки, скуксилась, но одеяло поправила. От страненно уставилась в окно: подбородок в ладошки упёрла, сидит. Обернулась через минуту.
— Так что? — спросила. — Дадут чего?
— В смысле?
— Ну… премию?
Опять двадцать пять. Сколько можно! Других тем мало? То деревня, то премия.
— Нет.
— Нет? Почему? Такой случай сложный! Я интервью начальника караула читала, там русским по белому: от деревянных домов хорошего не жди, кругом сюрпризы. В больнице вон лежишь…
— Я всегда лежу.
— Ну вот. А премию не дают.
— Да с чего её давать?! — разозлился я. — Какая сложность? Обычная работа!
— Не ори на меня. — Машка всхлипнула. Поджала губы.
Чёрт, опять ссоримся.
— Извини, — я приподнял голову, посмотрел Машке в глаза: на ресницах дрожали слёзы. Глаза у неё красивые, зелёные-презеленые. Ведьмовские. Кого хочешь очаруют. Но склочная иногда… ох. Прицепится к чему-нибудь — хуже репья. И кто ей о премии наплёл? Ноет и ноет, объясняешь — не понимает. Премия на то и премия, что не всякий раз.
— Лежи, — Машка убрала со лба каштановую прядь. — Пусть — обычная, без премий.
— Ну и славно, — я откинулся на подушку. Слабость мерзко растекалась по телу.
— Но… Олег, Митеньке новую куртку надо, ботинки, велосипед он просил, за бассейн платить… — жена методично загибала пальцы.
Её настойчивость умиляла — на сервелат, значит, хватает, на остальное — нет? Жадина ты, Машка. Цени, что есть.
— Начальник сказал — именные часы дадут.
Она аж подскочила.
— Какие часы? При чём тут часы? Премию они когда дадут?!
Я поморщился: вот ведь, а? — гнёт и гнёт своё. Махнул рукой: замолчи. Провод — прозрачная змейка, бегущая от капельницы к вене, — угрожающе качнулся.
— Нет у них лишних денег, Палыч и то наравне со мной в ведомости проходит. А уж ребята… Ты что, Машка? Совесть-то поимей.
— Ах, совесть?! — воскликнула жёнушка. — Это кому ещё надо о ней позаботиться! В прошлый раз дали всего ничего, в позапрошлый вообще — только в газете написали! Солить тебе эти статьи и на обед подавать?! А Лаврецкий что пишет? Гад неблагодарный! Прямо помоями обливает! И если они не начнут платить нормально, я… я жаловаться буду! Ребёнок раздетый ходит, но дворам где-то шляется, а отец по больницам бока пролёживает! Я из сил выбиваюсь, чтобы семью содержать!..
Всё, Машку несло. Она плела такую несусветную чушь, такую ерунду, что сама устыдилась бы на трезвую голову. Ребёнок у неё раздетый ходит, как же. Из сил она выбивается. Ну-ну.
Из коридора донеслись голоса — блеющий тенорок доктора и чьи-то грубоватые, с хрипотцой. Спорили, перебивая друг друга. Им вторило буханье сапог.