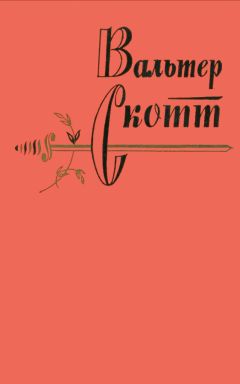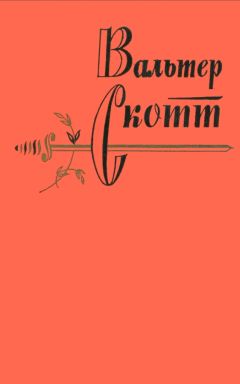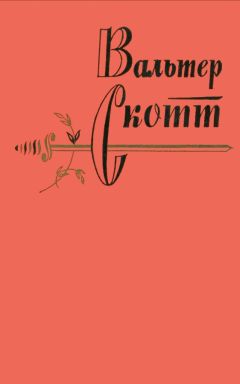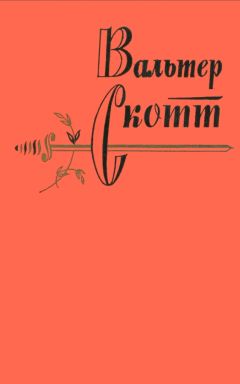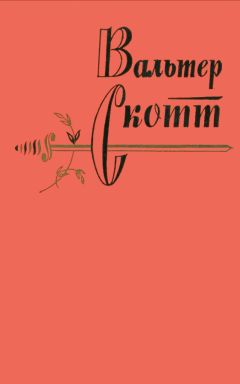Майкл Гелприн - Кочевники поневоле
– В каком, позволь спросить, смысле не возвращаться? – опешил Ловкач. – Он что же…
– По словам командира заслона, этот Курт влюбился в декабритку и остался с ней. Он сирота, родители погибли, близкие родственники тоже. Местный священник, некий Клюге, заочно отлучил его от церкви, имущество распределил внутри кочевья.
– Понятно, понятно, святой отец поступил правильно. Что ж, боюсь, их счастье будет недолгим, – горестно посочувствовал влюбившемуся октябриту Ловкач. – Что по остальным?
– Со слов того же Клюге, с ними все в порядке. Они исповедовались, все остались тверды в своих убеждениях и вере. Командир у них хорош – тёртый парень, бывал в переделках, толковый и преданный. Зовут Мартин Бреме, тридцать четыре года, женат, двое детей, в кочевье пользуется авторитетом. Прозвище – Железный Мартин – весьма красноречивое. Я думаю, стоит присмотреться к нему, шеф, возможно, он нам подойдёт.
– Возможно, возможно, – задумчиво протянул Ловкач. – Толковый, тёртый и преданный, говоришь? Что ж, я согласен, передай, будь так любезен, в октябрь, чтобы присмотрелись. Что-нибудь ещё?
– Нет, шеф.
– Ну, тогда сделай милость, ступай.
Выпроводив Дылду, Ловкач плеснул в хрустальный бокал дымчатого «Чивас Ригал», пригубил, посмаковал во рту, затем мелкими глотками отправил в горло. Уселся в массивное, с витыми ножками кресло красного дерева и разложил перед собой бумаги – отчёты агентов из апрельских и майских кочевий.
Углубиться в материалы, однако, не удалось. Условный стук в дверь – два длинных удара и три коротких оповестил, что прибыл курьер из июля, от хозяина.
Депеша, курьером доставленная, была зашифрована и снабжена грифом «Особой важности». Это означало, что надлежит бросить все дела и переключиться на то, что велит хозяин. Выпроводив курьера, Ловкач взялся за расшифровку. С полчаса он скрупулёзно переводил цифры в буквы и составлял буквы в слова. Когда, наконец, содержание депеши стало явным и Ловкач с ним ознакомился, он долгое время просидел в прострации, пытаясь собраться с мыслями. Когда это, наконец, удалось, поднялся, наполнил бокал «Чивас Ригалом» до краёв, залпом его опростал, нашарил в ящике стола сигару, закурил и откинулся в кресле. Он осознавал, что от того, как ему удастся справиться с поручением хозяина, зависит его дальнейшая судьба. А возможно, не только его судьба и даже не только самого хозяина, а всей республики в целом. И также осознавал, что в случае, если справиться не удастся, он, Ловкач, проживёт крайне недолго. Его попросту устранят, как носителя смертельно опасной информации, и устранят незамедлительно. Ловкач вновь наполнил бокал, осушил, с силой раздавил в пепельнице окурок раритетной сигары и усилием воли заставил себя сосредоточиться. Сейчас, впервые за всю свою долгую и удачливую карьеру, он пожалел о том, что не остался заурядным, ни во что не впутывающимся армейским лейтенантом, которому никогда не пришлось бы принимать к исполнению то, что предлагалось в депеше.
А предлагалось в ней в кратчайшие сроки разработать операцию по устранению трёх человек. Имена этих людей, каждое по отдельности, внушали трепет, а собранные вместе вгоняли в ужас. Джон Доу, Дэвид Самуэльсон и Джерри Каллахан. Ловкача передёрнуло от осознания, на кого ему предстоит замахнуться. На разработку операции отводилась неделя, по её истечении предстояло составить план и согласовать его с хозяином. И, в случае одобрения, приступить к реализации.
Глава 7
Декабрь. Курт
Снег укутал землю декабря плотным и тяжёлым белёсым покрывалом. Именно белёсым, не белым – в тусклом свете Нце мир потерял яркость цветов и красок, нахмурился, посуровел, стал угрюмым и мрачным. Сол навсегда скрылся за горизонтом, теперь с закатом Нце наступала полная темнота и тянулась она ровно половину суток – до следующего восхода.
Выбравшись из шатра затемно, Курт Федотов сбросил меховую парку, скинул вслед за ней рубаху и нещадно растёрся снегом. Натянул рукавицы, отодрал от наста примёрзшую к нему за ночь пару беговых лыж, повозился, прилаживая крепления, и, как был, по пояс голый, рванул от шатра на юго-восток. С полчаса он, яростно отталкиваясь от снега заострёнными на концах лыжными палками, безостановочно гнал вокруг лагеря по мёрзлой скрипучей лыжне. Затем махом свернул и ещё минут двадцать, не давая себе роздыха, шёл по целине. Вновь вымахнул на лыжню и, пройдя с полмили, повернул к лагерю.
Снежана к возвращению мужа успела вскипятить клюквенный чай и разогреть на костре оставшуюся со вчерашнего зайчатину. Расправлялись с ней втроём – к завтраку подоспел одетый по-походному Медведь. Чай пили уже впопыхах, под ворчание Медведя о том, что в молодые годы следует быть порасторопнее. Затем Курт навьючил на плечи тяжеленный рюкзак со снастями, Снежана упаковала в свой жестянки с наживкой, и все трое, надев лыжи, двинулись на север, к океану.
Центр лагеря пересекли, когда серебряный обод Нце едва появился над лесом. Отсюда и окрест концентрическими кругами расходились островерхие шатры декабря, его первого, боевого кочевья. Было их несколько сотен, больших, семейных, и малых, холостяцких и вдовых. Кочевье просыпалось. Над шатрами уже вились дымки. Мужчины, щурясь спросонья, выбирались из жилищ наружу, за руку здоровались с соседями, кряхтя и ухая, умывались в снегу. С десяток девушек и молодых женщин, сгрузив в сани жестяные вёдра, собирались на дойку. Молоко трирогов было густое, жирное, с него сцеживали сливки, сбивали сметану. Добавляя закваску, превращали в простоквашу, ряженку и варенец.
Курт оглядывался. Он ещё не привык к виду декабрьского кочевья. Женщины, занятые хозяйством, мужчины-охотники, дети, бегающие с визгом между шатрами. Так же, как в октябре. И не так. Октябрьские кибитки были добротными и нарядными. Декабрьские жилища казались ветхими, на шатрах виднелись швы и заплаты. Утварь была по большей части не июльской, а самодельной – из дерева, бересты, кости. Игрушек у декабрьских детей Курт не заметил, да и самих детей было мало. А ещё лица. Лица у декабритов были другие.
По словам Медведя, ещё пять лет назад людей в кочевье было в полтора раза больше. Еды хватало, из апреля и октября бесперебойно поступали товары, и можно было, хоть и довольно скудно, но жить. Многое изменилось за последние годы, после того как июльским указом запретили ярмарки на ноябрьской земле и стали вздувать цены на апрельских торгах. Снизились, а затем почти иссякли поставки лекарств, фруктов и овощей. Вовсе прекратились поставки оружия. В зимние кочевья пришла цинга, вслед за нею пожаловал голод. Стали умирать старики, а дети – рождаться слабыми и хилыми. С каждым годом ситуация становилось всё хуже, а цены на летний товар продолжали неуклонно расти.
– Здорово ночевали, – приветствовал Медведь вооружившегося топором и собирающегося колоть дрова Фрола. – Порыбалить с нами не желаешь? Если соберёшься по-скорому, мы подождём.
– Здравствуй, Медведь, – Фрол заулыбался, перехватил топор левой рукой, а правую протянул для рукопожатия. – И ты, красавица, – подмигнул он Снежане. – Курт, дружище, рад тебя видеть. Как дела?
– Как сашша бела, – по-русски ответил Курт.
Снежана прыснула. Акцент у выучившего десяток расхожих декабрьских фраз Курта был чудовищным.
– Карашо смёца, кто смёца паследный, – укоризненно произнёс Курт.
– «Паследный, наследный», – передразнила Снежана. – Говори лучше по-июльски. Так что насчёт рыбалки, Фрол?
– А пошли. – Фрол с маху воткнул топор в покрытый снежной пылью деревянный чурбак. – Подождите, я мигом.
Через пять минут двинулись на север вчетвером. На окраине лагеря Фрол отобрал у Курта рюкзак, и тот, выдвинувшись вперёд, принялся прокладывать лыжню, остальные пристроились следом.
Уминая поскрипывающий, похрустывающий под ногами наст, Курт думал о Боге. Он так и не смог отказаться от своей веры и лишь скорректировал её под давлением ставших неоспоримыми фактов. Создатель перестал быть для него святым и непогрешимым, а мир, сотворённый им, – справедливым и честным. Медведь, а за ним Снежана уверяли, что вскоре Курту предстоит переход от количества усвоенной информации к качеству, и тогда он станет если не атеистом, то агностиком. Пока что, однако, переход задерживался, и Курт стоически сносил сарказм в голосе жены, когда речь заходила о теологии и связанных с ней предметах. Эта тема была единственным камнем преткновения между ними, зато во всём остальном они ладили идеально. Строптивая и своенравная Снежана теряла и строптивость, и своенравие, стоило мужу заглянуть ей в глаза. А ночами они любили друг друга – так же страстно, пылко и неистово, как в первый раз, и у Курта по-прежнему кружилась голова и плыла земля под ногами.
Декабрь заканчивался, уже десять кочевий сошлись и встали лагерем неподалёку друг от друга. Ждали ещё три из позднего декабря, а вслед за ними должны были появиться январские. Затем ещё два месяца, и люди зимы соберутся вместе. Настанет март, за ним придёт апрель, а дальше… Дальше не брался загадывать никто. Ни Медведь, ни сухонький седой старичок Андрей Андреевич, который руководил декабрьским кочевьем так же, как пастор Клюге – октябрьским, и которого, в отличие от пастора, называли старостой. Не брался предсказать результат апрельского противостояния и Ларс Торнвальд – февралит, которого в прошлом году на всеобщих зимних выборах избрали президентом и командующим.