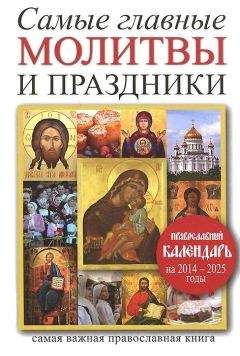Олег Верещагин - Никто, кроме нас!
Потом они разом подняли лица. Губы их не шевелились – но один за другим начинали звучать горькие, недоуменные голоса – казалось, над эстрадой, сталкиваясь, бьются людские мысли…
Разве погибнуть
ты нам завещала,
Родина? —
горько спрашивал молодой мужчина.
Жизнь
обещала,
любовь
обещала,
Родина… —
тихо сказал девичий голос.
Разве для смерти
рождаются дети,
Родина? —
звоном взорвался крик мальчишки.
Разве хотела ты
нашей
смерти,
Родина? —
хрипловато произнес еще кто-то.
…Страшный грохот заставил всех вздрогнуть. Голубоватый свет погас; его сменило сплошное кровавое свечение, и на заднем плане всплыли зубчатые руины города. Верещагин почувствовал, как по коже побежал мороз, на миг он подумал: боги, неужели все заново?! Елена сжала руку мужа.
Саваны полетели прочь. И зазвучали уже живые, настоящие голоса…
Пламя
ударило в небо! —
ты помнишь,
Родина?! —
спросил почти яростно парень.
Тихо сказала:
«Вставайте
на помощь…»
Родина, —
почти прошептала девушка.
Славы
никто у тебя не выпрашивал,
Родина, —
запальчиво и гордо сказал мальчишка.
Просто был выбор у каждого:
я
или
Родина, —
спокойно и уверенно подытожил немолодой мужчина.
Золотые, серебряные и голубые лучи побежали по развалинам, стирая их вместе с тьмой и алым светом. Вновь появились девушка и тот парень, и они читали попеременно:
Самое лучшее
и дорогое —
Родина.
Горе твое —
это наше
горе,
Родина.
Правда твоя —
это наша
правда,
Родина.
Слава твоя —
это наша
слава,
Родина!
Тишина лопнула и разлетелась на куски. Каждый в огромной толпе принял все сказанное как обращение лично к себе.
– Старые стихи… – сказал Верещагин, когда шум вокруг утих – словно волны откатились обратно в море. – Кажется, Роберта Рождественского[38].
– Ничего. Напишут еще новые – и о нас. Уже пишут.
– Да… Мне знаешь чего жаль только?
– Чего?
– Что люди забудут о Великой Отечественной… Я даже чувствую себя виноватым… перед ветеранами…
Ларионов-старший не ответил. На сцене уже разыгрывалась постановка, посвященная славянским странам, вошедшим в СССР. На фоне белорусского флага кряжистый усатый мужик пел под гитару – а сбоку от него мелькали кадры хроники времен войны: защита Минска, пограничное сражение, взятие Люблина…
На русском поле «Беларусь»
Пахал и пил взахлеб соляру,
Давал на сенокосах жару…
Но в бак ему залили грусть.
Потом в застенках гаража
На скатах спущенных держали.
Скребла его когтями ржа.
И под капотом кони ржали.
И сотни лошадиных сил
Рвались на русские просторы.
Он слышал дальние моторы
И каплю топлива просил.
Без плуга корчилась земля.
Без урожая чахла пашня.
Двуглавый герб-мутант на башнях
Венчал двуличие Кремля.
И, окружив славянский дом,
Пылили натовские танки.
Глобальной газовой атакой
На Минск надвинулся «Бушпром».
И встал мужик не с той ноги,
Ко всем чертям отбросил стопку,
Заправил «Беларусь» под пробку.
К рулю качнулись рычаги.
Советский гимн запел движок
(Его другому не учили),
И, повернув колеса чинно,
Он небо выхлопом обжег.
И через ноздри клапанов
Втянув убитой пашни запах,
Он, вздыбившись, повел на Запад
Ряды железных табунов.
И понеслись в последний бой
Все «Беларуси» – белороссы.
На подвиг малые колеса
Вели большие за собой.
И странно было всей Руси,
Великой некогда и смелой,
Вставать за малой Русью – Белой
И верить: Господи, спаси!
И через поле, через мать…
Опять сошлись надежды в Бресте,
Где сроду с Беларусью вместе
России славу добывать.
И честью пахаря клянусь,
Что, на бинты порвав портянки,
Тараном в натовские танки
Влетит горящий «Беларусь»[39].
Люди зашумели.
– Вуууук!!! – орал кто-то одурело. – Батько-о-о-о!!!
Верещагин сказал:
– А что ни говори, а воевали мы его оружием. По крайней мере – вначале. Жаль, что не его избрали Вождем.
– Говорят, он сам отказался, – произнес Ларионов. – Смотри, Боже Васоевич. Сам приехал.
Юный глава югославской Скупщины, смущенно улыбаясь, поднятой рукой пытался успокоить людское ликование.
– Я буду говорить по-русски, – сказал он. – В конце концов, это заслуга русских – что есть моя страна, что у меня, в конце концов, целы ноги. Здравствуйте, братья…
* * *Где-то уже шумела стройка. По предрассветной почти пустой улице ветер гнал клочок бумаги. От водохранилища тянуло речной водой. Сидя на скамейке, Верещагин слушал Пашку Бессонова.
Ты знаешь, мне приснился странный сон,
Смешной и страшный, путаный и длинный:
Как будто я был вылеплен из глины
И с жизнью человечьей разлучен.
Как будто я нездешний, неземной,
И будто крови нет во мне ни грамма,
Как будто кто-то гонится за мной,
И будто нет тебя на свете, мама.
Как будто бы чужую чью-то роль
Заставили играть в пустой квартире,
И из всего, что было в этом мире,
Остались одиночество и боль.
И я не знал, где мне тебя искать,
Но я искал, сглотнув слезу упрямо.
Не страшно даже камню кровь отдать,
Чтоб только ты ко мне вернулась, мама.
И не пойму, во сне иль наяву
Мне на плечо твоя рука ложится.
Взаправдашние утренние птицы
Вдруг радостно рванулись в синеву[40].
Певец прихлопнул струны исцарапанной ладонью, покрытой еще не сошедшим с лета загаром, и тихо сказал, ни на кого не глядя:
– Не бойся. Это сон. Это неправда…
– Пашка, – спросил Верещагин, – скажи мне ты. Все то, что мы потеряли. Все те, кто погиб. Это было не зря?
– Димка верил, что не зря, – Пашка встал. – А значит – не зря, Олег Николаевич… Ну, я пойду. Хоть пару часов посплю. Вы заходите в отряд, он там же, только не в подвале, конечно.
– Зайду, – сказал Верещагин и, откинувшись на спинку скамьи, закрыл глаза.
Тамбовские письма
Здравствуй, Сережа!
Ты наверное уже забыл кто я такой и вобще. А я Лешка. Лешка Баронин. Вспомнил? Я тебя часто споминаю. И всех наших.
Я пишу из США. Хотя теперь ведь уже нет США, а есть КШСА. Неудобно выговорить. Конфидерация Штатов Северной Америки. Так вот здравствуй Сережа из КШСА.
Когда мы с папой, я так называю Эда, ты его помнишь? Когда преехали, тут было еще хуже чем в России. Савсем плохо. Все разрушено и погорело. У папы оказывается сожгли дом и убили всю семью. Мы сперва думал, что всю. Мы поселились в палатке со склада. И первый же вечер папа принес бутылку виски и хотел пить. А я ее разбил и сказал, что нидам пить. Что от пьянки ничего нибудет хорошего. Он сперва на меня страшно так глянул и я думал даже, что ударит. А он только обнял меня, стиснул (прямо больно) и заплакал. И говорит, что зря я тебя (меня) привез, видишь тут ничего нет у меня. И говорит, что утром пойдем в русское консульство и ехай домой. Тогда я тоже (по секрету, никому ни говори, Сережа) заплакал и говорю: никуда я от тебя ни паеду, хоть гони. А утром давай будет дом строить. Хоть как. И он меня уложил на матрас, сам сел рядом на полу и говорит: ну давай, сын.