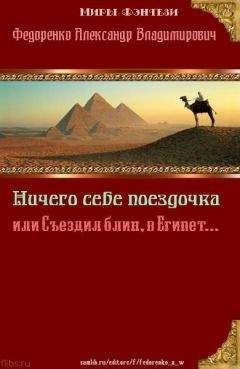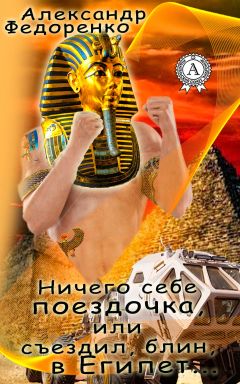Сергей Самаров - Отчуждение
– Ладно. Продолжай докладывать, – потребовал я сухим, и вполне армейским тоном, и умышленно используя армейскую формулировку «докладывать» вместо «рассказывать», чтобы сильнее дисциплинировать рядового, а то мне показалось, что он по мере того, как углублялся в рассказ, начинал чувствовать себя героем необычного приключения, чем-то отличным от других бойцов. Но у нас все отличные от других. И каждому может выпасть на его долю возможность угодить в подобную или в иную странную и даже тяжелую ситуацию. И не зря наш комбат часто повторяет свою любимую фразу, что солдат спецназа ГРУ всегда является самостоятельной боевой единицей, даже когда остается один против превосходящих сил противника. Самостоятельная боевая единица может многое, она даже победить может, хотя силы будут внешне несравнимы. Подполковник примеры обычно приводить не любит. Но я знаю много примеров для иллюстрации этих слов. И про офицеров, и про солдат. Но, даже будучи самостоятельной боевой единицей, всегда следует помнить, что вокруг все точно такие же или даже более опытные единицы. И потому я постарался своим тоном и внешней холодностью, отсутствием восторга, вернуть летающего в облаках рядового на землю.
Он попробовал вернуться, но тон его был все еще с громадной толикой самоуважения. Это неплохое чувство, и я против него ничего принципиального не имею. Главное, чтобы оно не превалировало над другими. Иначе и до беды недалеко. В боевой обстановке такой человек будет излишне себя драгоценного беречь, и это может нанести вред товарищам. У нас в спецназе ГРУ так не полагается. Не хочется высокими лозунгами говорить, но у нас всегда в первую очередь о товарище заботиться положено, а потом товарищ позаботится о тебе. И так всегда и во всем.
– Кресло начало мне показывать, что означает шлем. То есть, что он может. Откуда-то мне пришло в голову воспоминание, что в детстве я больше всего на свете любил качаться на качелях. И кресло начало качаться. В качели превратилось. Причем, в такие громадные качели, каких я никогда не видел.
– А причем здесь шлем? – не понял я предыдущего утверждения.
– Вот об этом я и хотел сказать. Шлем, скорее всего, и внушил мне, что это он управляет креслом. Именно он, а не само кресло такое. Само кресло – это только инструмент, своего рода, средство передвижения, и не более. Шлем уже управлял, когда просто в кармане кресла лежал. Качели он еще тогда мне показал. Но, когда я его на голову надел, все усилилось многократно. А шлем – это и двигатель, и система управления. У меня именно такая мысль в голове возникла. Но сама по себе она возникнуть не могла. Я сам даже не задумывался, откуда мне в голову приходят мысли. Это я уже здесь понял, когда вернулся. А там я другое понял, что шлем вместе с креслом хотят меня для чего-то использовать. Я оказался нужным инструментом в каком-то деле. Только я не могу сообразить, в каком именно. И вообще, когда шлем одеваешь, перестаешь думать словами. Даже внутренний диалог происходит с помощью ощущений. Это не совсем понятно, тем не менее, этому как-то сразу обучаешься.
– Вообще-то человеку свойственно всегда думать не словами, а образами, – поправил я солдата, но его эта поправка не смутила. Он продолжил тем же тоном:
– Я сам себе космонавтом показался. У меня в голове с какой-то стати вдруг возникла картина из старой, еще советской кинохроники, которую однажды по телевизору посмотрел. Там космонавтов готовят на центрифуге. И кресло тут же стало центрифугой. Я сначала даже испугался, боялся вылететь из кресла, но там какая-то своя сила была, которая меня без ремней в кресло вжимала, и держала. У меня руки, ноги, голова – все вытянулось, словно оторваться желали. А сам я в кресле, как часть его, сидел. И в автомат вцепился, чтобы он не оторвался от ремня. Ощущение было такое, что оторваться может. А когда я успокоился, убедился, что кресло меня не выпустит, мне даже понравилось на центрифуге кататься. Там скорость большая, ветерок приятный.
В этот момент в кармане на груди рядового, видимо, завибрировала трубка сотовой связи. И я снова убедился, что Пашинцев слишком вознесся в своей самооценке. Вообще-то у нас в бригаде наличие трубок у солдат отдано на откуп командирам взводов. Разрешил командир, имеют солдаты трубки. Не разрешит, трубки сдаются в камеру хранения в каптерке, и возвращаются только на время выходных увольнений, отпусков и при увольнении в запас. Иметь при себе трубки разрешается только солдатам и сержантам контрактной службы и офицерам. Я в своем взводе иметь трубки солдатам разрешал, запрещал только брать с собой в командировку. А Пашинцев, ничуть не стесняясь, и даже не спросив у командира разрешения, вытащил трубку, отошел на три шага в сторону, и начал разговаривать. Я так понял, что звонила ему мама, обеспокоенная тем, что, как передали в телевизионных новостях, в небе над Кавказом происходят какие-то непонятные события, похожие на космическую войну двух незнакомых землянам высоких цивилизаций. Но Виталий, молодец, волновать мать не стал, и сказал только, что разговоры об этом есть, но это далеко от их части, и он ничего рассказать не может, потому что не знает.
Нормальный звонок. Мне, честно, понравилась заботливость матери. А если бы она позвонила несколькими часами раньше, когда у нас шел бой с бандой эмира Магомета Арсамакова. Что – вместо того, чтобы заряжать гранатомет Рахметьеву, Пашинцев будет маме рассказывать, что где-то рядом дают салют, и потому в трубке слышится стрельба?
Рядовой повернулся, поймал мой сердитый взгляд, и быстро закончил разговор. Хорошо хоть, хватило у него ума сказать:
– Извините, товарищ старший лейтенант, мама волнуется. Она у меня в больнице лежит. Операцию по удалению желчного пузыря делали. Я потому и трубку с собой взял, чтобы с мамой общаться, поддержать ее. Там, в больнице, телевизор смотрела, новости. И что-то там сообщили про наши события. Мама волнуется, а ей сейчас волноваться нельзя. У нее в прошлом году второй инфаркт был. Сердце после операции может не выдержать.
– Товарищ старший лейтенант, – по связи вмешался в разговор старший сержант Камнеломов, – он ко мне обращался с просьбой насчет трубки. Я разрешил. Не успел просто вам сообщить.
Я согласно кивнул, хотя Камнеломова глазами не видел, как наверное, и он меня. Вот так и случаются всякие гадости, за которые потом бывает стыдно. Я уже собрался отругать Пашинцева, и забрать его трубку до воскресного увольнения по возвращению в часть. А оказалось, что трубку рядовой взял с разрешения моего заместителя и по уважительной причине.
– Но вот, что странно, товарищ старший лейтенант. Я недавно смотрел на трубку. Она у меня сигнал подала, что заряд кончился. Думал еще, не забыть сразу зарядить, когда вернемся. А сейчас она показывает полный заряд. Кресло что ли аккумуляторы заряжает!
Вспомнив про аккумуляторы, Пашинцев напомнил мне, что я веду запись, и на «планшетнике» аккумулятор тоже не вечный. И все события я записать не смогу.
– Ладно, Виталий, продолжай. – поторопил я рядового.
– Короче говоря, я попробовал еще один вариант качелей – из стороны в сторону, а не вперед назад. Еще в детстве думал, почему такие качели не делают. Кресло покачало меня. А потом я почувствовал со стороны шлема прямое давление на себя. Шлем заставлял меня спуститься на дно ущелья, опередив весь взвод. Это шлему нужно было обязательно, чтобы я взвод опередил. Чтобы один спустился. Не знаю, для чего. Но я не люблю в принципе, когда на меня так давят, и стал сопротивляться. И мысленно начал ощущать, как кресло делает круги над взводом, и садится на землю. Кресло послушалось, и село. Но село как-то сердито. И выбросило меня. Может быть, даже с небольшой злостью.
– Это все очень интересно, – сказал я, и, сам того от себя не ожидая, надел на голову вместо армейского, шлем из кресла, и шагнул вперед.
* * *Вообще-то моя голова размеров на пять превышает голову рядового Пашинцева. У него, наверное, самый распространенный пятьдесят седьмой размер головного убора, а у меня редкий шестьдесят второй. И мысль о том, что шлем на меня попросту не налезет, изначально в голове мелькнула. Но тут же оказалось, что шлем мне абсолютно впору, и не мал, и не велик. Видимо, так он устроен и из такого неизвестного мне материала сделан, что на любую голову подходит. Даже на голову, в два раза большую, чем у рядового Пашинцева, как он уже рассказывал.
Я сам сразу не понял, что заставило меня надеть шлем. Потом сообразил, что это шлем, который я в руке держал, вложил в мою голову эту мысль. А, оказавшись на голове, вложил и следующую, уже более настойчивую. Долго не думая, я пошел в сторону кресла, чтобы сесть в него, и самому испытать то же, что испытал рядовой Пашинцев, и даже больше. Я намеревался поддаться желанию шлема, и спуститься на дно ущелья, куда его звал шлем. И даже отдал приказ взводу следовать туда же. Только думал я при этом не о кресле, а о своем оставшемся дома мотоцикле, хотя он и слишком слабосильный, чтобы по таким горам без дороги бегать. Здесь нужен какой-нибудь мощный из семейства «Эндуро»[4]. И, к моему удивлению, когда я раздвинул кусты, передо мной вместо кресла стояло некое подобие мотоцикла. Причем, не моего легкого «китайца», а мощного и сильного, с объемным бензобаком, двухколесного красавца, о каком я давно мечтал, но позволить себе купить не мог – финансы не давали такой возможности. Судя по рифленому протектору резины, это был как раз «Эндуро». Я не просто сел на удобное сидение, я влетел в него, как всадник влетает в седло своего коня, ухватился за руль, как всадник за повод, и услышал звук мощного двигателя с «громкоговорящим» прямоточным глушителем. Газовать здесь было негде, тем не менее, я резко повернул на себя ручку газа, не включая передачу, и услышал отклик взревевшего двигателя. Только после этого отжал сцепление, и во второй раз газануть просто не успел, потому что мотоцикл стремительно взмыл ввысь.