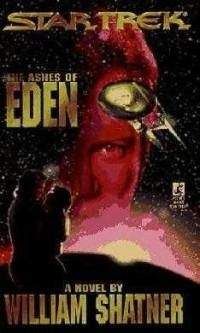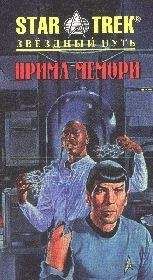Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
По-новому, властно и вдохновенно звучали его слова.
Клаша ничего не понимала. Но она и не пыталась вслушиваться в смысл речей. Ей было любо не отрываясь глядеть в затуманенные глаза, отражавшие в себе такую безбрежную глубину, что захватывало дыхание и от сладкого страха падало сердце. Чудилось, будто уносилась она куда-то в неведомый край, где воздух синь, как глаза вошедшего в её душу этого странного, так не похожего на других человека, где не видно земли и со всех сторон, из-за прихотливых звёздных шатров льются прозрачные звуки неведомых песен, таких же желанных, смелых и гордых, как его неведомые слова.
Васька неожиданно рассмеялся.
— Да ты, никак, малость вздремнула?
Она вздрогнула и прижалась к его груди.
— Сказывай, сказывай… — И одними губами: — Радостно мне, Вася, и страшно…
— Страшно пошто?
— Памятую яз, ещё малою дитею была. Приходил к нам умелец однова. Горазд был на выдумку особную — выращивать яблоки. А ещё умел на воду наговаривать: покропишь той наговорённой водою кустик, николи мороз не одюжит его. Боярин заморские кусты держал, и ништо им: никаки северы не берут.
Выводков любопытно прислушался.
— И каково?
Она печально призакрыла глаза.
— Из губы приходили. Да суседи, князь-бояре с монахи пожаловали. Дескать, негоже холопям больше господарского ведати. И порешили, будто умельство у выдумщика того от нечистого.
— Эка, умишком раскинули, скоморохи!
— Про умишко ихнее яз не ведаю, а человека того огнём сожгли.
Болезненно морщился огонёк догоравшей лучины. На стенах приплясывали серые изломы теней. В щели скудно сочилась лунная пыль, в ней таял любопытно подглядывавший из-за кучи тряпья на людей притихший мышонок.
Васька взял девушку за подбородок.
— Авось меня не сожгут.
Она отстранила его руку.
— Не гадай ты, Васенька, долю.
И всхлипнула неожиданно. Растерявшийся рубленник подхватил её на руки и, как с ребёнком, забегал с ней по сараю.
— Мил яз тебе аль не мил?
— Милей ты очей мне моих. И то, всё думаю-думаю, каким приворотным зельем душу ты мою опоил?
Он сел на чурбачок и коснулся губами её щеки.
— Поставлю хоромины — челом ударю боярину. — И с глубокою верою выдохнул: — За умельство моё отдаст мне князь тебя в жёнушки без греха.
Обнявшись, они трижды строго поцеловались, как будто сотворили обрядное таинство.
Выводков неохотно пошёл из сарая. У выхода он задержался и поманил к себе застыдившуюся девушку.
— А ежели не отдаст без греха, — мне все дорожки в лесу — родимые. Уйдём мы с тобой в таки чащи дремучие, ни един волк не сыщет.
Он тревожно заглянул в её глаза.
— Аль не пойдёшь?
И, уловив ответ по преданной, детской улыбке, победно тряхнул головой и скрылся.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Сын боярский Тешата изоброчил своих людишек двумя сотнями локтей[27] холста, контырем[28] воску, батманом[29]ржи и двадцатью рублями денег московских ходячих.
Воск холопи собрали за один день в лесу, в пчелиных дуплах. На другое утро людишки разбились на два отряда: женщины и малые дети ушли за подаянием на погосты и в город, а мужики двинулись к Хамовничьей слободе и, дождавшись тьмы, ринулись на грабёж.
Чем изоброчил Тешата своих холопей, тем и выплатили ему без остатка в недельный срок.
В убогой колымажке, нагруженной собранным добром, уехал сын боярский по вызову к недельщику[30].
Он не знал, зачем его вызывают, но, на всякий случай, запасся гостинцами.
Далеко от погоста Тешата остановил лошадь, выпрыгнул из колымажки и пошёл, сутулясь, к серединной избе.
— Господи Исусе Христе, помилуй нас! — нараспев протянул он, низко кланяясь в двери.
— Аминь! — донёсся в ответ сиплый басок.
Гость вошёл в избу, трижды перекрестился на образа и коснулся рукою пола.
Хозяин сидел, уткнувшись кулаком в жиденькую бородку свою, и на поклон не ответил.
«Лихо, — болезненно скребнуло в сердце Тешаты. — Не зря, кат, закичился».
Однако он ни одним намёком не выдал своего беспокойства и, сохраняя достоинство, отступил к выходу.
— Мы, доподлинно, невысокородные будем, а и не в смердах рождённые.
Недельщик подёргал бородёнку свою и, подобрав рассечённую губу, захватил ею в рот жёсткую щетинку усов. Сын боярский пристально вглядывался в лицо недельщика, тщетно пытаясь прочесть в бегающих паучках чуть поблёскивающих зрачков причину вызова его на погост.
После длительного молчания хозяин пошевелил, наконец в воздухе отставленным указательным пальцем.
— Быть тебе, человек, на правеже.
Он вздохнул и безучастно зажевал заслюнявившиеся усы.
Гость по-собачьи прищёлкнул зубами.
— Не боязно мне. Жил яз до сего часу по правде, и ни един человек не должон изобидеть меня.
Недельщик осклабился.
— Ежели по правде живёшь, князь Симеону пятьсот рублев оберни.
Гость от неожиданности шлёпнулся на лавку.
— Пятьсот?! Окстись, Данилыч!
Лицо его посинело, как у удавленника, и покрылось коричневыми пупырышками, а концы пальцев заныли, точно окунули их в ледяную воду. Перед ним предстал весь ужас грядущего.
Недельщик потянулся за шапкой.
— К окольничему[31] идём, человек.
Дружелюбивая улыбка не сходила с лица.
— Быть тебе, человек, на правеже. Ещё по великой седмице[32] болтали люди про пятьсот рублев.
Тешата ожесточённо растирал онемевшие пальцы и шумно пыхтел.
Едва недельщик взял шапку, он быстрым движением сполз с лавки и стал на колени.
— Данилыч! По гроб жизни молитвенником буду твоим. — И, слезливым шёпотом: — В колымажке яз по-суседски гостинчик доставил.
Лицо хозяина сразу стало серьёзней и строже. В сиплом баске послышался оттенок участия.
— Ты сядь, человек. Потолкуем по-Божьи.
Пошарив за пазухой, сын боярский достал узелок.
— Не взыщи.
Он отсчитал десять рублей и положил их на стол.
— А в колымажке холст, да колико воску, да ржица.
Данилыч недовольно покрутил носом.
— А холст-то, выходит, твои людишки разбоем у хамовников взяли?
— Что ты, Данилыч!
Тешата повернулся к иконам.
— Прими… Зёрнышка для себя в избе не оставил… Токмо что для окольничего приберёг. — И, отставив два пальца, клятвенно прошептал: — Ежели одюжу боярина, всех людишек продам, до денги[33] тебе принесу, да ещё две чети[34] пашни твоих.
Горько вздохнув, недельщик примирённо махнул рукой.
— Ладно уж… Токмо для тебя, чем сила будет, ужо послужу.
К вечеру Тешата и Данилыч приехали в город. У окольничего в избе, низко согнувшись, стоял отказчик из вотчины Ряполовского.
Окольничий пересчитывал сложенные в стопочки деньги.
Холоп отвесил земной поклон.
— Не трудись, господарь. Денга в денгу — тридцать рублев.
Но окольничий только зло покрутил головой и продолжал кропотливый счёт.
Недельщик взглянул в оконце и замер от зависти и восхищения. Тешата робко тёрся подле холопей, перетаскивавших из колымаги в подклет гостинцы.
Стрелец просунул голову в полуоткрытую дверь:
— Боярского сына приволокли.
Не отрываясь от денег, окольничий приказал позвать недельщика.
Данилыч шагнул через порог и сочно причмокнул.
— Ты бы подсобил, Данилыч, чем зря глазеть. — И с таинственною улыбкою: — Слюни-то подбери. Чай, и тебе доля тут полегла.
Покончив со счётом, окольничий выделил несколько стопочек для недельщика, а остальные сгрёб в мешочек и хлопнул в ладоши.
— Веди подьячего и сына боярского, — бросил он сонно появившемуся у двери стрельцу.
Заломив больно руки, слушал Тешата, как читает подьячий ссудную запись. На его выпуклом лбу проступил крупными каплями пот. По короткой шее вертляво скользила вздувшаяся синяя жила.
— Повинен ты в том, что по сроце не вернул ссуду князю-боярину.
— Облыжно, осударь, оговорил меня тот Симеон. Николи ссудной кабалы мы с ним не писали.
Подьячий хихикнул в кулак и неожиданно плюнул в лицо Тешате.
— Не вели печенегу[35] бесчестить меня!
Стрелец и отказчик схватили Тешату за руки. Окольничий топнул ногой.
— Ежели перстом шевельнёшь, в железы обряжу! Подьячий обиженно сморщился.
— Бесчестить честного можно. А сей по делом своим, яко та блудница. Глаголет же мудрость: плюй в очи блуднице, она же рече: се в очёсах моих плювия[36] божия.
Пришибленный взгляд сына боярского тщетно бегал по лицам, ища защиты. Но никто не обращал на него больше никакого внимания. Взоры всех были устремлены на подьячего, выводившего на твёрдой волокнистой бумаге постановление.