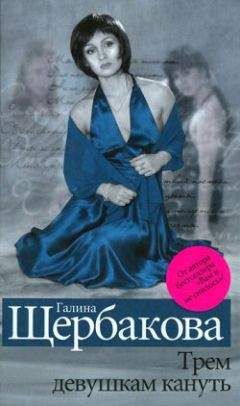Юлия Федотова - Опасная колея
— Это вам не известно, а нам известно всё! — вмешался агент Ивенский, стараясь, чтобы в голосе звучало поменьше торжества, всё-таки людям только что открылась их страшная судьба — негоже при них особенно веселиться, это будет бестактно. Хотя, если посмотреть с другой стороны… Видение показало ясно: в ближайшее время заговорщики казнены точно не будут, впереди у них ещё полвека жизни, и даже если одна её часть пройдёт в кандалах и с бубновым тузом на спине — останется другая, вольная часть; Мыльнянов даже откормиться успеет. Роман Григорьевич на их месте расценил бы это как хорошую новость. — …Таисьев Сергей Викентьевич, русский, мещанин, неженатый, студент оккультного факультета Дерптского университета, шестой семестр, — знаете такого?
Заговорщики нахмурились, припоминая.
— А-а! — оживился Паврин. — Тот бойкий студентик из Дерпта! Кстати, Жорж, он на тебя чем-то был похож… — тут Мыльнянов чуть поморщился, в своё время он тоже заметил сходство неприятного юноши Сержа, но не с собой, а с другом Модестом. — А что с ним случилось? Вы и его повязали? Напрасно. Мелкая сошка, мальчик на побегушках, не более.
— Ну, кого «вязать», кого нет — это уж нам решать, — возразил Роман Григорьевич свысока. — А с ним ничего не случилось. Пока. Но лет этак через пятьдесят его сожгут на костре матросы Балтийского флота. Заметьте: не британцы, не французы, не германцы, даже не османы — наши с вами соотечественники. «Взбесившаяся чернь», следуя вашей терминологии.
В допросной повисло молчание. Стало так тихо, что когда Листунов нечаянно смахнул на пол карандаш, все вздрогнули как от выстрела.
— Ерунда! — бросил Паврин зло. — Я понял: все эти страшные истории вы сочинили нарочно, чтобы нас деморализовать и сбить с толку! Это ваши отвратительные сыскные штучки! Но зря старались, господа, не на тех напали! Можете упражняться в подлости на нигилистах и прочем сброде, истинным же сынам отечества ваши каверзы не страшны!
Тут Титу Ардалионовичу очень захотелось встать со своего места и дать Модесту Матвеевичу по шее сапогом (лучше бы, конечно, розгой, и не по шее, но нижних чинов Роман Григорьевич пока отослал, а других тяжёлых предметов, кроме сапога, в допросной не имелось). Но агент Ивенский упрямству заговорщика обижаться не стал, постарался повернуть разговор в практическое русло.
— А что, — спросил он, обращаясь не к разбушевавшемуся Паврину, а к притихшему Мыльнянову, — нет ли способа проверить подлинность моих слов? Может быть, вас убедила бы какая-нибудь клятва?
Но ответил не Мыльнянов, а Паврин, причём очень живо.
— Безусловно, есть! Повторяйте за мной: клянусь Землёй и Небом, клянусь Водой и Огнём…
— Модест, не нужно, прекрати! — вдруг перебил Мыльнянов, бледнея.
— Нет, отчего же? Он сам хотел! Сам и виноват будет, свидетели имеются… Вот перебил, придётся сначала. Клянусь, Водой и Огнём, клянусь Светом и Тьмой, клянусь Землёй и Небом, и всем сущим под ним. Клянусь утробой матери моей и чреслами отца моего… — «Фу-у, стыд какой!» — скривился Удальцев, но Роман Григорьевич усердно повторял, хоть и его такие физиологические подробности немного смутили. — Клянусь именем моим, и силой моей, и жизнью моей, и плотью моей и кровью и духом. Клянусь, что, открывая судьбу Модеста Паврина, Георгия Мыльнянова и Сергея Таисьева, я говорил чистую правду, как она есть!
— Или как я её представлял! — выкрикнул окончание клятвы Мылнянов. — Модест, отчего ты не договариваешь?
Тот не удостоил соратника ответом, лишь бросил снисходительный взгляд. А Роману Григорьевичу, эхом повторившему последние слова, объявил злорадно. — Ну, вот и всё! Это старинная формула, рассчитана специально на чародейское сословие, будь то маги, колдуны или ведьмаки. Если вы нам солгали — умрёте ровно через двенадцать минут.
Разумеется, Роман Григорьевич не умер. Сидел со скучающим видом и рисовал по памяти профиль девки-оборотня на допросном листе, пока остальные напряжённо следили за томительно-медленным ходом минутной стрелки на настенных часах.
Самое забавное — Паврина он опять не убедил.
— А-а! — вскричал он, поняв, что разделаться с коварным сыскным не удалось. — Так вы здесь и клятвы научились обходить?! Вот оно — настоящее змеиное гнездо! Покажите, покажите-ка ваши амулеты, милостивый государь!
Конечно, не стоило бы потакать арестованным, но Роман Григорьевич показал — жалко что ли? Паврин изучал их долго и придирчиво, выискивая тот, что против клятв, пока Мыльнянов не одёрнул горько:
— Брось, Модест! Мы оба знаем, что клятву именем Сущего обойти нельзя.
— Можно! — артачился тот. — Можно, если видения ему внушили, а он пересказал их нам, воображая, будто говорит правду! Всё предусмотрели, господа-сыскные! Вот если бы ты, Жорж, не встрял со своим окончанием…
— Ах, пожалуйста, могу и без окончания! — перебил Ивенский с лёгким раздражением, и без запинки, отмахнувшись от перепуганного Мыльнянова, повторил опасные слова, — …клянусь, что говорил чистую правду!
И снова не умер — надо же! Больше упрямцу нечем было крыть.
Тогда довольный Роман Григорьевич вызвал конвойных и велел увести заговорщиков в камеру, да не общую, где всякого народа вдосталь, и один сосед другого страшнее, а в отдельную, чтобы сиделось им мирно и хорошо думалось.
А недовольный Листунов заявил:
— Вы, конечно, начальник, вам виднее… Но я ума не приложу, для чего вам понадобилось устраивать этот учёный диспут с арестованными? Только даром потратили время, а результатов никаких, до архата даже разговор не дошёл. Лично я на вашем месте вызвал бы людей, произвёл допрос с пристрастием — живо заговорили бы господа патраторы. Они от простой розги, какой только малых детей учить, и то едва не разрыдались. А уж настоящая пытка…
— О-о, — протянул Роман Григорьевич, перебив. — Вы, Иван Агафонович, видно не знаете последних столичных веяний. Ведь как было всегда? Самыми надёжными считались именно те показания, что были получены под пыткой. Теперь же у нас всё наоборот.
— То есть, как? — не понял пальмирец.
— Очень просто. Обвиняемый на суде заявляет, что давал показания, будучи избитым и запуганным до невменяемости, что несуществующую вину признавал во избежание дальнейших пыток, и потом публично отказывается от всех своих слов. А судьи в таких случаях всё чаще склонны принимать сторону обвиняемого. Поэтому в делах особенно серьёзных мы теперь стараемся добывать показания бережно, чтобы потом никто не подкопался! — в общем, целую теорию (кстати, вполне соответствующую действительности) изложил Роман Григорьевич, вместо того, чтобы коротко и честно признаться, что сам не любит лишний раз прибегать к пыткам, потому что папенька его эту сторону полицейской службы особенно осуждает…
— Неужто? — опечалился Листунов. — Вот беда, откуда не ждали! Это что же теперь, с каждым крестьянином или, там, мещанином на допросе разговоры по душам заводить? Откуда же тогда взяться порядку в стране, если мы с преступниками либеральничать станем? — и добавил совершенно по-понуровски. — Ах, Русь, Русь, куда же ты катишься?
— Нет, — Роман Григорьевич решил его немного утешить, — с крестьянином или мещанином либеральничать пока не обязательно. Но с господами либо с магическим сословием приходится соблюдать некоторую деликатность. Учтите на будущее, скоро это и до вас дойдёт.
— Тьфу-тьфу, не накаркать! — Иван Агафонович трижды сплюнул через плечо.
Назвать имя архата арестованные отказались. Ночь они провели в тяжких раздумьях и бесконечных разговорах на повышенных тонах (из-за чего выглядели теперь чрезвычайно вялыми и утомлёнными; вдобавок, Паврин имел синяк под глазом — это надзирателю так надоел шум в камере, что он не сдержался, не проявил должной деликатности, утихомиривая господ-арестантов). Результатом их споров стало безоговорочное признание правоты ведьмака-сыскного. Ведь в отличие от соратницы своей, ни Мыльнянов, ни даже упрямец Паврин, вовсе не относились к числу слепых фанатиков, которые, уверовав во что-то однажды, уже не способны изменить своё мнение в силу неповоротливости ума, и никакими доказательствами их не прошибёшь. Нет, оба партратора были весьма умными молодыми людьми, сохранившими критику и здравый смысл.
Архат смог их убедить, и они пошли за ним, воображая, будто совершают благое деяние. Но даже теперь, когда стало ясно, сколь жестоким было их заблуждение, выдавать властям своего идейного вдохновителя они не желали. Ведь и его мотивы были самыми благородными, и он никому не желал зла. Но что поделаешь, errare humanum est.[64] И если придётся несчастному архату отвечать за свои ошибки перед законом, то не его верные патраторы будут тому виной — примерно в таком духе они довели свою мысль до следствия.