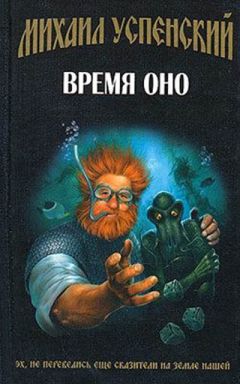Доната Митайте - Томас Венцлова
Несмотря на более чем скромный тираж (Pontos Axenos – четыре экземпляра, «Мир – видение…» – пять), книга ходила по рукам. Учительнице литовского языка Б. Катинене сборник стихов принес на одну ночь ее сын, студент Художественного института. Учительница старательно переписала все в записную книжку, даже описала издание: «Желтая глянцевая обложка.
Прямоугольник на титульном листе, и елочка на последней странице из той же бумаги».[82]
В школьную тетрадь те же стихи переписала и однокурсница Томаса поэтесса Юдита Вайчюнайте. Все, у кого хранился самиздат, знали, как это опасно. В 1961 году, прослышав о вызовах и допросах в КГБ молодых знакомых, Юдита и Аушра Слуцкайте носили по городу Pontos Axenos, думая, у кого можно спрятать книгу. Спрятали у знакомого врача. Между тем экземпляр книжки «Мир – видение…» попал в руки первого секретаря компартии Литвы Антанаса Снечкуса, который прочитал ее и посоветовал Пранасу Моркусу, молодому «работнику издательства», более реалистично относиться к жизни[83]. Все закончилось так мирно, по-видимому, из-за того, что отчимом молодого человека был высокий советский начальник Казис Прейкшас.
Был еще один рукописный сборник Томаса Венцловы, изданный не «Ёлочкой». Это «Московские стихи» (1961—1962), которые КГБ так и не отыскал. В этих стихотворениях очевидны черты «кулинарной поэтики», характерные для пастернаковской лирики: «Сочилась сывороткой, елеем, маслом / неопределившаяся огромная Москва[84]» («30. 05. 1960») или «и черный бархат как варево / распробует бульварное кольцо[85]» («Московское стихотворение»). Сравним, к примеру, у Пастернака: «И солнце маслом / Асфальта б залило салат»[86] или «Как горы мятой ягоды под марлей, / Всплывает город из-под кисеи».[87]
Стихи «30. 05. 1960» написаны 29 мая, накануне смерти Пастернака, в названии – дата его смерти. Быть может, Венцлова предчувствовал эту смерть, хотя уже с начала мая было известно, что поэт безнадежно болен. Москва в стихах грозная, но живая. Такой ее видит Томас накануне 30 мая 1960 года:
Шли мимо смерти, камеры и страны,
Светясь, росло пространство в переулках,
И черное, как тень стрел, неслось
Несправедливое летнее небо.[88]
Так, в самиздате Венцлова дебютировал и как поэт, и как филолог. Этот дебют оценили внимательные читатели и критики.
Две книги, которые были официально изданы в семидесятые годы, – «Ракеты, планеты и мы» (1962) и «Голем, или Искусственный человек» (1965) – научно-популярные. Хотя сам автор признает, что написал их «скорее заработка ради»[89], космос и кибернетика действительно его интересовали. Первую книгу (кстати, единственную, в которой автор согласился на некоторый компромисс: хорошо отозваться о советской власти, коли она лучше всех исследует вселенную) оценили не только гуманитарии, но и астрономы. Стремление Томаса Венцловы жить в открытом мире выражено в этой книге по-максималистски: «Мы как будто вышли из комнаты на улицу, в огромный город. Масштабы в корне изменились. Мир, в котором живет и работает человек, был большим, а сейчас он стал беспредельным. Можно сказать, что люди перестали быть провинциальными жителями захолустья. Еще трудно понять, как это отразится на нашем быте и наших мыслях, но ясно одно – космические полеты ввели новое измерение».[90]
«Голем, или Искусственный человек» – книга о кибернетике, которая удивила математиков «тонким пониманием духа точных наук»[91]. Но со стороны иногда казалось, что поэт впустую растрачивает силы. Андрей Сергеев передает мягкие, но ироничные слова литературоведа, бывшего политзаключенного Пятраса Юодялиса: «Томас – единственный поэт в Литве. Его не печатают. Предложили написать какую-то брошюру по семиотике, и он согласился! Это как если бы Паганини предложили играть в кино перед началом сеанса, и он согласился бы!»[92] Однако еще в 1960 году, сдав экзамен по логике у профессора Василия Сеземана, Томас с гордостью заносит в дневник: «Получил предложение изучать кибернетику (у профессора на столе вся кибернетическая литература, которую здесь можно достать)»[93]. Так что увлечение этой наукой возникло задолго до того, как он написал книгу, и переросло в серьезный интерес к семиотике.
Не только поэзия, но и другие увлечения – просторами космоса или просторами человеческого сознания – только приближали неотвратимый конфликт с закрытой советской системой.
5. Попытки жить в Литве
Примерно в 1962 году я понял: им я писать и работать не буду. Вообще, не буду писать и говорить того, во что не верю. После такого решения оставались только переводы.
Томас ВенцловаВ 1965 году Томас Венцлова вернулся из Москвы в Вильнюс; хотя по семейным делам и по работе он много ездил в Ленинград и Тарту. Можно сказать, что вплоть до 1975 года, когда Томас написал «Открытое письмо ЦК Компартии Литвы» и потребовал выпустить его за границу, он искал нишу, в которой мог бы избежать компромисса с властью.
Главная заслуга поэта в эту пору – знакомство литовского читателя с современной западной литературой и русскими авторами, к которым советская власть была неблагосклонна. Еще в начале семидесятых годов он перевел рассказы Ярослава Ивашкевича (переводы опубликованы под названием «Девушка и голуби», 1961), «Бронзовые врата» Тадеуша Брезы (1963), чуть позже – «Капут» Курцио Малапарте (1967). Он брался за самые сложные тексты. Например, в 1968 году был опубликовал перевод на литовский трех глав из джойсовского «Улисса». Томас признает, что этот перевод стал для него экзаменом «на культурную и языковую зрелость».[94]
Весной 1968 года Антанас Венцлова пишет: «Томас собирается в Ленинград. Он перевел 60 стихов английских и американских поэтов и ходит очень довольный»[95]. Переводы Томаса, которые печатались в периодике и разных сборниках, почти всегда предваряло небольшое вступительное слово переводчика. В нескольких строчках умещались сведения о жизни автора, об особенностях его творчества, о роли в мировой литературе. Когда это было возможно, подчеркивалась связь автора с Литвой. Например: «У нас Норвид совсем неизвестен, а должен бы быть родным, как Мицкевич: фамилия у него литовская, отец – жмудский боярин, и в стихах он упоминает Литву».[96]
Важность миссии Венцловы, переводившего на литовский новых авторов, понимали не только интеллектуалы. Киновед Живиле Пипините росла в маленьком провинциальном городке. Она пишет о своих школьных годах: «Каждый переведенный им поэт, даже фрагмент текста, вызывали желание искать книги того же автора или кого-либо другого, указанного в сноске крошечными буковками. Наконец, это заставляло учить другие языки, когда оказывалось, что не все есть по-литовски или по-русски. <…> Эти прошедшие цензуру статьи и переводы открывали интеллектуальную перспективу, независимую от официальной идеологии, побуждали к самостоятельной оценке, позже – к поискам самиздата. Я думаю, что это была самая настоящая диссидентская деятельность Венцловы».[97]
Всем было очевидно, что эти публикации отнюдь не способствуют укреплению советской идеологии. Поэтому, когда Томас Венцлова в 1972 году принес в издательство «Вага» рукопись «Хор. Из мировой поэзии» – свои переводы русских, польских, французских, английских и американских поэтов, издательство отказалось ее публиковать, объясняя это тем, что «большинство переводов уже было опубликовано в литературной печати. Кроме того, принцип составления сборника и отбор авторов кажутся односторонними»[98]. Конечно, «односторонне» было представлять русскую поэзию, в которой столько достойных примеров социалистического реализма, стихами Ахматовой, Пастернака, Мандельштама и Хлебникова. Западную поэзию в сборнике представляли Сен-Жон Перс, Дилан Томас, Уистен Хью Оден, Роберт Фрост, Эзра Паунд, Томас Стернз Элиот, Вислава Шимборска, Виктор Ворошильский и многие другие. Эту книгу под новым названием «Голоса» выпустили только в 1979-м, да и то в Чикаго. Правда, переводчик подчеркнул: «„Голоса“ я посвящаю Литве».[99]
Не все хвалят переводы Томаса Венцловы. Сам он так объясняет свой подход, «который преобладает в Восточной Европе – его придерживались и Пастернак с Лозинским в России, и польские поэты. <…> Стих должен оставаться стихом, а не подстрочником. Конечно, в таком случае многое приходится менять, но замены не должны переходить за границы интуитивно ощущаемой нормы»[100]. Эта позиция поэта и литературоведа основана на понимании природы стиха: «И основная мысль, и самые сокровенные подтексты стихотворения воплощены в его структуре. Слова дают только то, что лежит на поверхности. Поэзия зависит от слов, но не в прямом смысле. Чтобы понять стих, надо объять всю его структуру»[101]. Хуже других приняла его переводы литовская эмиграция, которая привыкла к точности подстрочника.