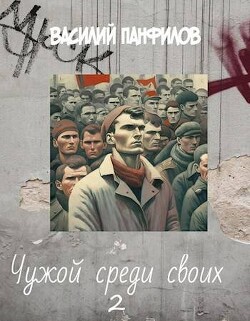Чужой среди своих 3 (СИ) - Панфилов Василий Сергеевич "Маленький Диванный Тигр"
Прокашлявшись, она прокуренным басом зачитала мою историю — вкратце, а потом, так же вкратце, выводы и наблюдения психиатра, Татьяны Филипповны и руководства детского дома.
' — Ух я и сука! — поражаюсь подобранным формулировкам, стоя перед комиссией, собравшейся в актовом зале администрации детдома, — Это ж надо так слова подобрать!'
— Нет, ну каков сукин сын! — нет выдержав, прервал её один из ветеранов с богатыми юбилейными наградами на новёхоньком югославском пиджаке.
— Павел Ильич! Не выражайтесь! — тут же прервала его тётка, глянув так остро, что стало ясно — эта «право имеет», и своими правами пользоваться не стесняется, прогибая и ломая права чужие. Несмотря на несколько комическую внешность, она хищник, и притом из достаточно крупных.
— Нет, ну… — пожевал губами старичок, зажёвывая явно матерное словцо, — Для кого мы, понимаешь, Революцию делали? На пули шли, на штыки, голодали… страну, понимаешь, строили. А потом такие, как этот, приходят, и…
… сказано было много и многоголосо. Я узнал про себя много нового, и ещё больше — о родителях, своём народе, и почему-то — стилягах, ибо одного из старичков кровожадно переклинило на расстрелах и лагерях для всех, кто носит не ту одежду и слушает не ту музыку, а затыкаться он не хотел.
— Фа-шис-ты! — раз за разом повторяет один, похожий внешне на высохшего святого старца, по содержанию — на Жириновского, — Они все фашисты! Все! Я всегда говорил…
— Фёдор Иванович! — трубила тётка, оппонируя ему только тем, что с укоризной произносила его имя.
— А кто они⁈ Кто⁈ — не унимается предтеча, — Если люди не хотят жить в первом в мире государстве рабочих и крестьян, они…
Потихонечку осуждение, то бишь обсуждение меня, приняло более-менее формальное русло — с нужными, выверенными в институтах Марксизма-Ленинизма, цитатами, правильными формулировками, голосованием по отдельным пунктам.
Моего мнения не спрашивают, и наверное, мне и говорить-то не полагается. Ну… если только каяться!
Понять этот советский контролируемый хаос я даже не пытаюсь, за полной бессмысленностью оного. Все знают, как закончится выезд Комиссии, и решение, скорее всего, уже не просто готово, но и написано.
Знают это и члены Комиссии, но считают нормальным. А может, и не считают, но удачно меняют своё мнение и совесть на усиленный паёк.
— Вот не стыдно тебе, сопляку, — за каким-то чёртом решил обратиться ко мне один из Старых Революционеров, — отказываться от Советского паспорта⁉ От паспорта страны, стать гражданином которой мечтают сознательные пролетарии во всём мире? Вот как ты будешь смотреть в глаза людям, сдавая паспорт⁈
— А я и не получал, — отвечаю, раз уж спросили, — именно потому, что отказываюсь считать себя гражданином СССР. Страны, где мне отказывают…
… добавить что бы то ни было я не успел, переполох в курятнике поднялся знатный!
— Я ему, я его… — переклинило деда.
— Да пустите, пустите же, кому говорю! — орал другой, — Я ему уши-то, поганцу, пооткручу!
Получасом позже, наоравшись и наговорившись, Комиссия завершила своё заседание, и народ потянулся на выход, плюясь, печалясь о молодёжи, которая не та, и обсуждая народные средства от геморроя.
— Пусть здесь стоит! — собирая бумаги, трубным голосом велела тётка-монумент, — Пусть на этого субчика посмотрят поближе!
— Да, — тут же подхватилась завуч, понимая, что именно она, а не отсутствующий, уехавший на лечение директор, влетела, и от того ненавидящая меня со всей пролетарской ненавистью, — Пусть! Я вас уверяю, в нашем детдоме…
… и она пошла уверять в своём почтении, верности ленинским принципам и прочим вещам, а я — стоять почти в проходе.
— Ну надо же… — выдыхает в лицо старый большевик, и, не подобрав слов, проходит дальше. Равнодушно не проходит никто — каждый, будто потом будет поставлена отметка в личное дело, жаждет что-то сказать, и желательно — близко…
— Вот так вот, Савелов, вот так вот… — подытожила завуч, глядя на меня так, будто я — единственная преграда на пути построения Коммунизма.
— Да иди уж ты! — сорвалась она на визг, — Скройся с глаз моих, не доводи до греха!
Я выскользнул из актового зала — действительно, от греха… Старички, судя по шуму, толпятся где-то в вестибюле и у входа, и, насколько я понимаю, будут толпиться там еще достаточно долго. Нужно ведь покурить тем, кто курит, обсудить меня, а мне…
… нет, не показалось, точно не показалось!
Ещё раз оглянувшись, я заперся в кабинке туалета и там уже достал из кармана крохотный клочок бумаги, на котором знакомым почерком отца было написано «- Держись! Они будут давить, но всё уже решено! Ничего не бойся!»
— В суд… — обёрточной бумагой шелестит по детдому, — суд будет!
… а дальше — слухи, слухи, слухи… Они, мне кажется, распространяются вопреки всем законам физики, быстрее скорости звука, а иногда и без звуков вообще. Р-раз… и все всё знают.
Шёпот и громкие, нарочитые разговоры, выкрики в спину, и…
… я уже почти не реагирую на них. Нет, не привык, к такому сложно привыкнуть. Скорее — перегорел.
Почти три недели в детдоме, и из них две — в коробочке. В спальне. В столовой. Во дворе…
… и даже в туалете. С комментариями.
Это постоянное, нескончаемое давление, хроническое недосыпание и недоедание — день за днём, час за часом. Но со стороны, если смотреть на ситуацию широко закрытыми глазами советской карательной педагогики и самых гуманных законов в мире, всё в порядке[v]!
Это не давление, а забота, и окружают меня мои товарищи — хорошие, сознательные ребята, искренне беспокоящиеся о моей дальнейшей судьбе. Воспитание через коллектив.
Волнуются они за меня, переживают. Да, понятно, что они иногда бывают грубоватыми, но зато они искренние, открытые, переживающие за оступившегося товарища!
От такой их заботы я изрядно похудел, обзавёлся кругами под глазами, и иногда, когда забывался, шаркающей походкой. Татьяна Филипповна, курирующая меня, приехав с проверкой, долго потом, говорят, орала на Елену Николаевну. По слухам.
Со мной, как не сложно догадаться, слухами не делятся, но дети, даже если это сукины дети, остаются детьми, и язык за зубами держать пока не приучены, хотя иногда и пытаются. Информацию, поступающую из этих источников, сложно назвать достоверной, но тем не менее, какие-то выводы, пусть даже вчерне, делать можно.
— Вот что ты за человек, Са-ве-лов! — процедил сквозь зубы физрук, потянувшись было ко мне с гуманитарно-воспитательными целями, но пересилив этот порыв с немалым трудом. Для верности он даже спрятал руки в карманах, а потом, по-видимому, не доверяя ни сам себе, ни качеству советских карманов, сцепил их за спиной и даже плечи напряг.
— Не человек, а недо… — начал было педагог, но, осёкшись и спохватившись, наступил себе на горло. Судя по тому, как бешено задёргался его кадык, отнюдь не метафорически!
— С тобой, С-савелов, ребята даже в одной спальне не хотят ночевать! — выплюнул он, — Дожил! Это надо же…
Коллектив, судя по озадачившимся физиономиям, и не в курсе, что они, оказывается, приняли такое решение.
— Короче! — рявкнул физрук, злясь на меня, и кажется, на весь мир разом, — Отдельно теперь ночевать будешь, с-су… понял⁈ Специально для тебя спальню освободим.
— Ну, Валерьян Игоревич… — заныл кто-то из детей помладше, предвидя пусть временное, но уплотнение, и прочее ухудшение жизненного пространства.
— Молчать… — прошипел педагог, развернувшись резко и зло, и сразу — тишина…
Под присмотром педагога, сверлящего мне спину ненавидящим взглядом, я забрал из спальни свои, то бишь казённые вещи, в том числе и постельное бельё. Гитару у меня отобрали, спохватившись, неделю назад, выговорив заодно моим надзирателям, то бишь товарищам — за то, что они не доложили, не пресекли и не позаботились об этом сами, заранее и без напоминаний.