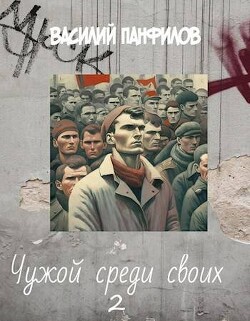Чужой среди своих 3 (СИ) - Панфилов Василий Сергеевич "Маленький Диванный Тигр"
— Ой, извини… — и толчок в спину. Не первый, не последний… и иногда, что характерно, заранее.
Начала дёргаться щека, а в глазах уже темнеет от яростного желания орать, бить…
… ещё чуть, и будет нервный срыв, приближение которого я ощущаю очень хорошо.
В спальню я пришёл, не думая ни о чём… хотя нет, вру! Подаренная Бугром гитара, которую то ли по недосмотру, то ли по какой-то прихоти администрации отбирать у меня не стали, легла в руки, странным образом подарив спокойствие.
Ну да… привычное, почти медитативное действие, способ занять себя…
… и я не заметил, как, усевшись на табурет, начал перебирать струны. Реплики, сперва язвительные, стали чуть реже, а потом ещё чуть, и ещё…
… а потом я заиграл «Дом восходящего солнца» — наверное, одну из самых известных англоязычных баллад. Я играл и пел, а они — слушали. Долго…
А потом…
… нет, они не предложили мне свою дружбу и не прекратили навязчивую, душную опеку, сопровождение осточертевшей коробочкой…
… но стало чуть-чуть полегче.
— А ты куда? — деланно удивился физрук, перед самым отбоем перехватив меня в дверях спальни, — Тебя в другой отряд перевели! Вон, и вещи твои уже там…
— Вон твоя койка! — ткнул рукой мужчина, пройдя вслед за мной в спальню.
— Понял… — а что я, собственно, ещё могу сказать? Нет, так-то много, и всё по сути, но смысл?
Койка моя оказалась в самом дальнем углу, далеко от двери, а взгляды моих новых соседей — ну очень многообещающими.
— Отбой! — посмотрев на часы, приказал физрук, — Давайте, по койкам!
' — Сука…' — мысли у меня сейчас вялые и однообразные. Спать хочется — как из пушки, но возможность быть побитым или получить, скажем так — новый, волнующий сексуальный опыт, она ни разу не шуточная.
… чёрт его знает, что мне снилось, и каким чудовищным усилием воли я проснулся, и, широко открыв глаза, уставился на тёмную фигуру, подошедшую к моей койки.
— Не спишь? — сдавленным шёпотом поинтересовалась фигура, удаляясь прочь, — Ну-ну…
… и так, сука, всю ночь!
Не знаю, сколько я в итоге поспал, но думаю, не больше двух часов, заполненных всякими кошмарами, так что встал совершенно разбитым.
А потом был день сурка — с коробочкой. С песнями, которыми я покупаю себе некоторое смягчение режима. С отбоем…
… и снова, и снова… и снова.
' — Ещё неделя, и я либо сорвусь и полезу в драку, — вяло думаю я, ковыряя ложкой (вилок детдомовцам не полагается) резиновую, предположительно творожную, запеканку, — либо у меня будет нервный срыв, после которого добрый дядя психиатр поколет меня укольчиками, от которых я стану равнодушным ко всему'
Проблема усугубляется тем, что дружественная мне фракция оказалась в ссылке. Одни — в подшефном колхозе, другие… а впрочем, неважно!
Важно то, что они, даже не влезая в конфликт, были, так или иначе, сдерживающим фактором. А сейчас их нет, и это, неожиданно, пугает…
— Савелов! — окликнула меня бесцветная воспитательница, — После завтрака к Елене Николаевне зайдёшь! Понял? Не слышу ответа!
— Понял, Дарья Аслановна! — отозвался я, не сразу вернувшись в реальность, — Понял!
Ждать завуча, дремотно подпирая стену возле кабинета, пришлось долго. На сопровождение уже почти не обращаю внимания — здесь, в педагогической локации, ничего серьёзного они мне не сделают.
— Ну, Савелов! — завуч разъярена так, что даже ключ в дверной замок вставляет, а вернее, вбивает, не то с третьей, не то с четвёртой попытки, — Доигрался! По твою душу Комиссия собралась! Готовься!
По-видимому, на моём лице недоумение отразилось достаточно явственное, так что завуч посчитала нужным пояснить:
— По её итогам, Савелов, будет ясно многое… очень многое, — многозначительно протянула она, усевшись наконец за стол, — Ясно будет, советский ты человек, и просто заблуждаешься, или…
Снова пауза, но я сейчас, после нескольких дней без нормально сна, туплю не на шутку.
— … ни в армию не попадёшь, — грозится тем временем завуч, — ни в институт! В паспорте у тебя специальная отметка будет!
— А-а… — вяло отзываюсь я, пытаясь понять, а в чём же, собственно, подвох? Мне, собственно, и в школе учиться не дали… вон, экзамены за девятый класса запретили сдавать! Какая, к чёрту, армия? Какой институт? А в паспорте у меня и без того специальная пометка стоит — графа «национальность».
— Эх, ты… — завуч, спохватившись наконец, что обычный набор советских страшилок меня не очень-то и пугает, махнула рукой, и, с некоторым усилием натянув на казённую физиономию дружелюбное выражение, начала вещать на другой волне.
— Советская молодёжь, Савелов, не боится грандиозных задач, которые ставит перед ней Партия! Советская молодёжь смело смотрит вперёд, в будущее, видя приближающийся Коммунизм и приближая его своими делами!
Её понесло на волне комсомольских строек, поворотов северных рек…
… и о том, что таких как я, в Коммунизм не возьмут!
— Всю жизнь под приглядом будешь, Савелов! Иди!
— Страны моей вернейшая опора — не стройки сумасшедшего размаха, а серая стандартная контора, владеющая ниточками страха, — вспомнилось мне, когда я выходил из кабинета…
— Савелов! — заорала Елена Николаевна так, что задрожали стёкла в кабинете.
… и кажется, вслух!
Затягивать не стали. Кто уж там и за какие ниточки потянул, но уже после обеда начала съезжаться комиссия, а Елена Николаевна, судя по её паническому выражению лица, к этому решительно не готова! Трава не покрашена, стенгазета не обновлена, и вообще — ВСЁ плохо!
По территории детского дома забегали воспитатели, стремясь, наверное, навести порядок в последние, ускользающие часы и минуты. Пару раз я натолкнулся на завуча, и женщина одарила меня таким многообещающим, ненавидящим взглядом, что стало ясно — это уже личное…
— Не лезь никуда, понял? — прошипел на меня физрук, схватив за грудки и тяжело дыша в лицо табаком и перегаром с лёгкой ноткой валерьянки, — Ну⁈ Понял?
— Понял, — соглашаюсь я и усаживаюсь на табурет — не лезть никуда, и ждать, когда позовут.
Ждал долго, и за это время задница, кажется, срослась с сиденьем табурета, став такой же плоской и деревянной.
В президиуме преимущественно невнятного вида бодрящиеся старички — из тех, живых ещё ровесников Революции, которые, ввиду собственной ничтожности, не добрались до высоких постов, зато и не пострадали во время Чисток. Сейчас, имея впечатляющий партийный стаж, персональные пенсии за это и награды к датам, они заседают во всяких комиссиях, ходят по школам с рассказами о Ленине и чем дальше, тем больше верят в собственное героическое прошлое.
От старичков пахнет табаком, лекарствами и нафталином, а ещё — неприятностями. Они, старички, с возрастом стали святее всех святых, и очень любят запрещать, не пускать и мешать жить.
Разбавлены старички двумя тётками.
Одна — блеклая, непонятного вида, не вполне понимающая, что же она здесь делает. Скорее всего, она какой-нибудь районный депутат, выбранный на безальтернативной основе и без особого на то своего желания из каких-нибудь ткачих. Теперь она, выбранная, заседает и голосует, поднимая руку с мандатом, ставя подписи и говоря, по необходимости, нужные слова, не понимая их смысла, но свято веря в важность своей миссии.
Вторая — монументальная кадушка, с щеками на плечах и начальственным выражением складчатого лица, и вот она-то свою роль понимает ясно. Она и по фактуре, и по духу — кирпичик в фундаменте советского государства.
В актовом зале воспитатели и ещё какие-то люди, изображающие, как я понял, массовку. Кто они, и каким боком причастны ко мне, к детскому дому или общественности, меня никто не торопится просвещать.
— Не будем тянуть, — густым басом сказала тётка-монумент, вставая, что я не сразу понял, настолько она оказалась коротконогой, — Мы все здесь люди занятые, поэтому, товарищи, к делу!