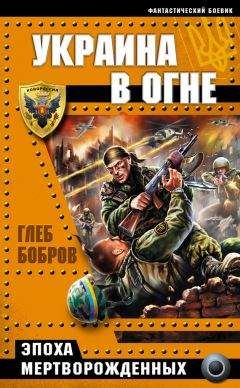Глеб Бобров - Эпоха мертворожденных
— Нечего ржать — послушай, что ящик говорит… — Он указал подбородком на монотонно бубнящий над стойкой телевизор. Там и вправду все время мелькали портреты и хроника с Пшевлоцьким. Несколько раз, рядом с его фамилией, прозвучало уже выученное мною «samobcjstwo».[168] Это вы пока предполагаете, обвинений в убийстве пока больше. Посмотрим, что вы после многочисленных экспертиз запоете… Кранты: всей свободной и прогрессивной прессе на две недели — мозговая косточка.
— Степан. Долго готовились?
— Да нет. Неделю на все про все. Он-то публичный пацан, на виду все время… и без охраны! — неожиданно улыбнувшись, добавил он.
Странно… Я не чувствовал никакой радости, столь предвкушаемого мстительного удовлетворения. На моих глазах быстро и грамотно, не забрызгав манжет, замочили паскуду, ради которой я откровенно шантажировал Президента Республики и крови которой жаждал год, и… ничего! Даже какие-то кошки соболезнования на душе скребут. Такой вежливый, чистенький, правильный дядечка. Радостно летел куда-то, и тут, на тебе — гранату в брюхо. Может, к жене, детям торопился…
— Это его дом?
— Да нет. Он на постоянке во Львове обитает. Здесь по отелям обычно. На Фалата он снимает квартиру своему мальчику. Вот, решил наведаться, по-заведенному…
— Сын?
— Ты че, Кирилл? — Он удивленно посмотрел мне в глаза и, видимо, увидев в них полное непонимание, вдруг захохотал на весь зал погребка! — Какой сын, братишка?! Говорю тебе «мальчик», понимаешь?! Такой розовый: губки бантиком — жопка пуговицей. Твой Пшевлоцький — альт. Причем альт известный…
— Альт???
— Вот ты даешь, Кирилл?! Как ты поехал на операцию — ничего не зная о клиенте?!
— Не гони на меня… Он, что — пидар?!
— Что за выражения, братишка?! Прямо как в кабаке, чес-слово! Нет такого слова в современном политкорректном мире. Так только неандерталец, типа тебя, может ляпнуть. Те, кого ты по-гомофобски привык обзывать педерастами, теперь — «альты», от уважительного к соотечественникам понятия «граждане альтернативного сексуального выбора»… — мой новый приятель откровенно развлекался. — Вы все там, у себя в Республике, такие дремучие?
— Знаешь, Степа, или как там тебя на самом деле… Весь мир, наверное, именно такой лишь потому, что с некоторых пор вдруг стало принято фашистов называть патриотами, а пидарасов — альтами.
* * *Выползя из осточертевшего вагона в славном Ростове-на-Дону, я тепло попрощался с моим провожатым.
— Подвезти до пограничного перехода?
— Да нет, брат, спасибо… Еще хочу своих повидать.
— Удачи вам, Деркулов.
— Вам спасибо, Игорь.
Подождал, пока он сядет в такси.
Ну, вот… Пора и мне долги отдавать.
Отошел в тень, вытащил телефон и набрал номер. На втором гудке ответил незнакомый женский голос:
— Слушаю?
Неуловимый акцент выдавал в ней иностранку. Он что — жену сюда приволок?
— Добрый день.
— Добрый…
— Я могу услышать Душана Бреговича?
— Да-а… Кто вы?
— Его старый приятель из Малороссии. Меня зовут Кирилл Аркадьевич. Он — знает.
Буквально через несколько секунд в трубе раздался знакомый прокуренный баритон:
— Это ты, Дракулич?
— Да, брат, привет!
— Привет! Откуда ты?
— Линия чистая?
Душан на миг подвис…
— Не знаю…
— В двух шагах от твоего офиса. Надо встретиться. Только — никого не зови и никому ничего не сообщай. Особенно в редакцию. Понял?!
— Нет проблем! Где, скажи?
— Сам назначай! Лишь бы таксист нашел да никто нам не мешал.
— Помнишь, друг, где мы, когда ты последний раз был тут, говорили?
Ух, ты! Конспиратор, дери тебя за ногу!
— Да, конечно, Душан, — годится. Время?
— Мне десять минут надо.
— Я успею раньше…
Он выглядел, как и прежде — сухопарый, загорелый и откровенно заграничный мужик лет за тридцать с хвостиком. Белые парусиновые штаны, такая же вымятая белая джинса распахнутой рубашки. Беспонтовая майка и мокасины на босу ногу. У нас так только гламурные студенты ходят. Если бы не ломающий нос рваный шрам через всю морду — просто играющий зайчик с обложки.
Обнялись. Сели за угловой столик.
Под тенистым навесом пусто. Пульсирующую в мозжечке кислоту, по моей ненавязчивой просьбе, сменили на протяжный черный блюзняк. В высоких, покрытых стекающими струйками прозрачного бисера бокалах принесли ледяное пиво. Жизнь…
Душан запарился, видно, впопыхах летел. На улице солнце, в преддверии неминуемого осеннего поражения, изливает последнюю ярость. В тенечке, под затянутым диким виноградом тентом, терпимо. Сейчас еще охладимся литром-двумя внутрибрюшного — совсем хорошо станет…
— Ну, как, Душан?
Приятель поставил на стол уполовиненный «для старта» бокал…
— Лучше, чем ебаться!
— Ха! Запомнил…
— Как твои дела, Кирилл?
— Нормально, брат… ты — как. Жену, смотрю, привез…
— Про какую ты по счету говоришь? — открыто улыбнулся серб.
— Ладно, Душан. Давай про дело.
— Давай!
— Ты здесь иностранных журналистов много знаешь?
— Всех.
— Можешь незаметно организовать сходняк в указанном мною времени и месте так, чтобы в этот же день информация пошла по мировым СМИ?
— Могу собрать. Волна пойдет — по информационному поводу смотря. Если.
— Повод нормальный, Душан, не волнуйся… Добровольная сдача Деркулова.
Специальный корреспондент белградской «Политики» аккуратно поставил стакан на пробковый пятачок подставки и, подняв полные смятения карие глаза, спросил:
— Что ты говоришь?
День вошел в пик Появилось еще несколько посетителей. Блюз, по многочисленным просьбам и так изнывающих от зноя трудящихся, сменили на нейтральный джаз. Учитывая цвет купюры, которую получил от меня бармен, можно надеяться, что зажигательной попсы и лагерного шансона сегодня в программе уже не намечается.
С Душаном сложнее…
— Тебя казнят, друг.
— И правильно сделают. Так и надо! Причем дважды… Сначала — расстрелять, потом — повесить…
— Не понимаю!
— Просто. Смотри… Нам, Восточной Малороссии, нужен мученик… Икона! Не просто очередной разорванный под бомбежками или насмерть забитый в лагере для перемещенных, а жертва международного произвола. Масштаб, понимаешь? — Серб неудовлетворенно скривил изуродованное лицо… — Давай начистоту, Душан. Деркулов сейчас прославленный полевой командир. Живая легенда Республики. И… объявленный в международный розыск, всемирно известный военный преступник. Палач и мясник. Имидж, как тебе известно, это — все. С обеих сторон фронта у меня слава — еще поискать. Казнив меня, они создадут икону. Знамя борьбы. И, заметь, не только в Конфедерации, а везде, где ковровым налетом проехались национальные интересы Пендосии. Про Югославию, например, рассказывать?
Спецкор мрачно улыбнулся:
— У нас многие сидят в Гааге. Слободан умер в тюрьме. И что? Он не икона. Его сколько до сих пор проклинают?
— Все клянут?
— Нет. Не все, конечно…
— Он ответил за свои ошибки! У кого их нет? По полной программе ответил… Я же хочу ответить за свои. Это — вторая причина…
— Ты солдат. Ты приказы выполнял. Ты не командовал!
— Командовал… До ста бойцов было в подчинении. Отдавал приказы и сам убивал… Да какая разница, брат! Не о том речь… Заповедь — кто отменял? На тот свет я поволоку обиды на свидомитов?[169] — Внимательно слушающий серб раздраженно развел руками. — Пойми, Душан, каждый творит в своей жизни, что пожелает, но и обязанности ответить за содеянное никто не снимал. Я хочу — ответить… Конечно, и рассказать фашикам все, что у меня поднакопилось… Но и уплатить за свершенное — тоже.
— Ты странный всегда был и есть. Тебя трудно понимать. Посмотри. Люди живут. Радуются. Жены, дети, друзья. Почему твоя жизнь — кровь и война? Пройдет, кончится, как у нас, надо жить будет. Ты сам нашел свою войну. Сам на нее приехал. Сам продолжаешь. Сам хочешь погибнуть. Ты себя убиваешь! Не фаши. Ты!
— Все сложнее, Душан. Мир изменился. Мы вынуждены это признать. Полностью сменились жизненные приоритеты. У людей теперь новая вера, новое Евангелие: «Возьми от жизни все!»
— Нет, Деркулов! Они устали от великих идей, забирающих миллионы их жизней! Они не хотят умирать за чужие теории. За чужие идеи! Какое дерьмо — умирать за чужие интересы!
На нас стали оборачиваться…
— Не кричи, а то съемочную группу привезти не успеешь.
Мой приятель раздраженно допил бокал и жестом показал вертлявой официанточке: «Повторить!»
— Мир, к сожалению, сложней, дружище Душан. Сказав «а», ты неминуемо вынужден сказать «бэ», потом «вэ» и — далее по списку, пока алфавит не кончится. Невозможно после буквы «а» подставить, например, «дабл-ю» или «зет». Так и в жизни… Сказав самому себе: «Беру от жизни все!» — человек словно заключает сделку с Сатаной. Теперь он весь погружается в тварный мир и, понятно, вынужден отринуть от себя мир горний. Можно, конечно, попытаться совместить полезное с приятным, но тогда все происходит по пословице про «рыбку съесть». Лишь три пути ведут к соприкосновению с духовным: истинная вера, познание и творчество. Избравший наслаждения мира автоматически вынужден отринуть от себя все базовые составляющие религии, науки и культуры. Какой может быть пост, принятие святых таинств и упокоение в воцерковленной жизни у сражающегося за канонизированное на глянцевых страницах благополучие?! Все, что мешает успеху, — тормоз! От него надо отказаться! Срочно!!! И… на помойку летят — достоинство, благородство, справедливость. Вспомни их пословицу: «Зачем бедному гордость?» Да ладно… Ты видел когда-нибудь кормящихся у суки щенков?