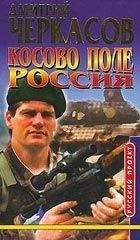Вячеслав Рыбаков - На мохнатой спине
Так и жил…
Поначалу я и не знал, что яркая и отчаянно храбрая девушка у нас в отряде — боец как боец, даже лучше многих — комиссарова дочь. Два месяца я смотрел на нее снизу вверх и был уверен, что она меня вовсе не замечает. Наверное, так оно и было какое-то время.
Но потом настала Каховка.
В те дни генерал Слащов — никакой еще не демонический литературный Хлудов, а просто небездарный кокаинист-золотопогонник — при поддержке кавкорпуса Барбовича бодал наши свежезахваченные плацдармы на левом берегу Днепра.
Сплошной линии фронта еще не сложилось, возникли ничейные зоны, гроздья пустых пузырей, которые каждый мечтал проткнуть первым, но боялся соваться наобум. И у белых, и у нас для серьезной разведки боем не хватало сил. А для детальной разведки с воздуха не хватало аэропланов.
Отец, суровый большевик, никак не выделял дочку среди прочего воинства. Красноармеец Марыля — и точка. Не знаю, как уж они меж собой общались в частном порядке, но если все в траншею — так и она в траншею, если усиленная группа в дозор — так и дочка в дозор, наверное, в качестве усиления. Нет, я не иронизирую — доверял он ей абсолютно, и стрелок она была отменный. А тут прижало выяснить, где против нас, завершая торопливую перегруппировку, сосредотачиваются изрядно потрепанные, чуть ли не до половины личного состава потерявшие части генерала Ангуладзе.
Почему-то в помощь Маше он послал именно меня. Она, разумеется, за старшего…
Ну, к тому времени я не простым бойцом уже был. Уже удостоился от комиссара подарка — именного нагана с гравировкой «За мужество, проявленное в боях с врагами пролетариата»; этот наган, всегда смазанный и заряженный, и по сей день увесисто покоился в ящике моего стола. Однако мало ли было в то время таких вот бесшабашно храбрых по обе стороны фронта… Правда, партийный стаж у меня к тому времени созрел нешутейный, для рядового бойца странный и даже как-то непозволительный… Нет, не хочу гадать. Потом мы с ним никогда об этом не говорили. Послал и послал. Двоих.
Мы проплутали между Магдалиновкой и Марьяновским хутором едва не до темноты. Решили назавтра двинуться на Черненьку и укрылись на ночь в брошенном, одиноко грустившем на окраине Магдалиновки доме с выбитыми окнами. Ночевать под открытым небом нам было не привыкать, но если есть возможность обойтись без этого, кто откажется? Размыкаться по разным комнатам не рискнули: она прилегла на хозяйской перине, а я на полу у комода, накрытого белой скатёркой. Жили тут люди, видно, достаточные и бросили свое обиталище совсем недавно. Мы это поняли, когда, стоило нам улечься в надежде выспаться, на нас темными сомкнутыми цепями, точно каппелевцы, двинулись по стенам сверху клопы.
До конца дней своих буду им благодарен. Не дали они нам, вымотанным до одури, провалиться в сон сразу; случись такое, мы проспали бы ввалившихся в тот же дом на каких-то полчаса позже нас пятерых беляков. Сонных бы они нас и повязали. А может, и порешили. Кой черт их к нам занес — не знаю; были ли они тоже дозором, или дезертирами, или отбившимися от своей части и шедшими ей вдогон разгильдяями, выяснять оказалось некогда. Мы от них услышали одно лишь слово — удивленное «краснопузые». А они от нас вовсе ни единого; а потом были только матюги, хрип и стон.
Вынужденный встречный бой в ограниченном пространстве, да еще в поздних сумерках, почти в темноте — самый паскудный подарок, какой можно получить после изнурительного дня. У них численное превосходство, зато мы в доме уже освоились. Когда накатывает таврийская ночь, помнить, где стена, где дверь, где клеть, где выход в сени, а где висит в тяжелом окладе икона, которую недолго сорвать, чтобы треснуть просунувшуюся голову по темечку, — дорогого стоит.
Это нас и спасло.
А их погубило.
Иногда все же странно бывает убивать людей, которые не только говорят на одном с тобой языке, но даже матерятся, как ты. Казалось бы, уж который год мы пускали друг другу кровь на потребу и потеху, как я теперь твердо знаю, англосаксам и прочей лощеной сволочи, уж пора было бы привыкнуть; но когда вот так, нежданно-негаданно, только-только оставшись наедине с вожделенной женщиной посреди хмельной степной ночи…
Вся недолга заняла минут пять. По одному русскому в минуту. А мы с Машей по два раза успели спасти друг другу жизнь; вот такая вышла круговерть.
Под конец я, кряхтя от ярости и натуги, просто руками задушил предпоследнего, а последнему, раздробив лицо прикладом винтовки, вышибла мозги Маша, потому что некогда ей оказалось передернуть затвор; парнишка, уже раненый, уже распластанный на дощатом, гулком под сапогами полу, успел зацепить ее сердце мушкой револьвера и только спустить курок не успел.
Потом я валялся навзничь, хрипло дыша, и грудь мне продавливала мертвая рука такого же тюни-лапотка, как я, волею случая оказавшегося на той стороне; уже не часть человека, но всего лишь тяжелая чужая вещь, мешавшая отдышаться, и я, едва очухавшись, ее скинул. И клянусь, помню как сейчас, в голове всплыло вдруг ни к селу ни к городу: проделана большая работа… А потом красноармеец Маша упала на колени рядом со мной, уткнулась лицом мне в грудь и заревела ревмя.
Рядом с нами остывали и деревенели тела тех, для кого слово «русский», наверное, и впрямь было синонимом «царский», а я гладил ее стриженную наголо от вшей голову сведенными судорогой пальцами, еще помнящими хруст вражьего кадыка, и бормотал что-то нелепое. Не надо… Все, все… Машенька…
И скрюченные пальцы, обжегшись о смерть, словно сами собой погнались за жизнью и расстегнули верхнюю пуговку на ее гимнастерке.
А она, будто того и ждала, сама рывком раздернула вторую и третью.
Так это и случилось у нас.
Она же девочкой оказалась!
Помню, это меня потрясло сильней всего. Мы были рядом, уже снова порознь, хотя и вплотную, но каждый опять отдельно, и я, сам чуть не плача от щемящего сострадания, бормотал: «Ты же погибнуть могла… Маленькая такая… Сто раз могла погибнуть…» А она неумело тыкалась мокрыми от слез губами мне в плечи, в грудь и заклинала невнятно: «Но теперь я… Ты же меня… теперь даже если — то я все равно уже… да? Да?»
Уже много позже, в тридцать шестом, в Париже, на какой-то бессмысленной и по политическим соображениям совершенно необходимой конференции с тамошними левыми я разговорился на кофе-брейке с одной крупной защитницей женских прав. Убейте, не помню, как звали. Мадлен… Жаклин… Она и на официальной части не скупилась на гневные обвинения: дескать, советский гнет лишил женщин наших среднеазиатских республик законного права на борьбу за свои права, и на перерыве ее понесло на ту же тему — самую, видимо, для Европы актуальную на второй год бойни в Эфиопии, на четвертый Гитлера у власти.
— В советской Средней Азии женщины пользуются равными правами с мужчинами, одеваются, как хотят, получают светское образование… — терпеливо втолковывал я. — Чего вам еще надо?
— Чтобы они добились всего этого сами, а не получили как подачку из рук тирана, — ответила она, глядя на меня гордо и победительно: вот я какая смелая, режу правду-матку и не собираюсь смягчать выражений, а попробуй, мол, упрекни меня в том, что я хамлю, как дура, — сам же окажешься дураком.
— Но это — тысячи жертв. Вы что, не знаете, чем кончались такие попытки в Северной Африке или на подмандатных вам, европейцам, территориях Переднего Востока? Женщин убивали, насиловали, жгли живьем…
— Настоящая борьба всегда сопряжена с жертвами, — изящно держа маленькую чашечку кофе наманикюренными пальцами, небрежно сообщила она мне и, будто в доказательство своей решимости бороться, тряхнула ухоженной гривой; в воздухе закружились дорогие ароматы. Я едва не чихнул.
Казалось, они тут не соприкасаются со взаправдашним миром и живут во вселенной словесных самоутверждений. Неважно, что на деле происходит. Неважно, какие последствия будут иметь слова. Лишь бы сказать что-то такое, чего не говорили до тебя. Такое, что еще пуще соответствовало бы выдуманным, выцеженным из сытого пальца представлениям, не имеющим ни единой связи с реальностью, кроме желания, чтобы тебя в этой реальности заметили.
— Хорошо, — я примирительно улыбнулся. — Это ваша гражданская позиция. Ваше социальное желание. Я понял. Общественное. А не могли бы вы мне поведать какое-то ваше личное желание? Сокровенное?
У нее загорелись глаза. Я понял, что сейчас она опять устроит сама себе удалое шоу про всемогущую и бескомпромиссную себя. И, разумеется, не ошибся. Так легко оказалось все знать про нее наперед. Она была проста, как погремушка.
— Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь у вас в Политбюро наконец набрался храбрости и убил Сталина.
Меня не то что разозлить, но даже обескуражить было невозможно. Не дома же. Я галантно улыбнулся. За эти годы я научился улыбаться так, как у них во время деловых встреч улыбались все: одними зубами. Глаза оставались ледяными. Так улыбаются волки, приступая к еде.