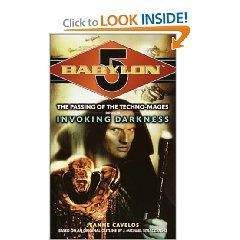Валерий Елманов - Найти себя
– Танцы как люди,– мечтательно произнес Квентин.– Можно, я сам скажу это принцу? – Почему-то Дуглас предпочитал именно это слово, лишь изредка упоминая «царевича».
– Скажи,– великодушно согласился я.– А также можешь добавить, что благодаря тебе Федор Борисович не просто начнет разбираться во всех фигурах придворных танцев, но и станет законодателем моды. Представь, как ему будет приятно. Внешне он, может быть, этого никак и не выразит, ибо на Руси в моде сдержанность в чувствах, но душа его переполнится неземным восторгом и... глубочайшей благодарностью к Квентину Дугласу.– Но тут же торопливо поправился, а то нашепчет еще, чего доброго, да не царевичу, а в сторону решетки.– Только я тебе и тут посоветовал бы, прежде чем что-либо произнести, вначале семь раз подумать над каждым словом, поскольку гениус тем и отличается от простого человека, что не излагает обычных вещей, но всегда подбирает только особые слова, способные поразить воображение слушателя.
– А как это? – робко спросил он меня.
– Думай сам,– отрезал я.– Мне таковское не под силу, поскольку я как раз из обычных людей, а потому до тебя мне не дотянуться, ибо гениус всегда одинокий ум.
Квентин закивал головой и вышел.
Фу-у, кажется, подействовало и я получил недельную отсрочку.
Но я рано радовался. Не прошло и двух дней, как все началось заново.
И что самое скверное – он уже вообще настолько плохо соображал, или, правильнее, соображал столь извилисто, не иначе как очумев от любви, что придавал самым простым моим фразам двойной, а то и тройной смысл, ухитряясь изыскать в них некое коварство или тайную интригу, направленную, разумеется, против него.
Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке – для этого имеются жесты, мимика и так далее. Но куда тяжелее говорить с теми, кто в те же слова вкладывает совсем другой смысл.
Стоило мне в ответ на его рассказ об увиденном сне, в котором принцесса Ксения предстала перед ним во всем своем великолепии, невинно заметить, что сны бывают столь же обманчивы, как и женщины, и он сразу прицепился к этому. Со всей страстью влюбленного Дуглас незамедлительно принялся мне доказывать, насколько глубоко мое заблуждение, ибо на самом деле она еще прекраснее.
Да кто бы спорил.
Молчать для меня было тоже не лучшим выходом. Во-первых, тогда я ставил крест на своих попытках остудить шотландца, а во-вторых, становился в его глазах равнодушным к безутешным страданиям друга. Тем более что он уже без того несколько раз намекал, что некоторые неспособны понять израненную любовью душу поэта.
Я как-то попробовал для поддержки разговора поддакнуть ему, дабы он окончательно не поставил на мне, как на своем сердечном наперснике, крест, но вышло вновь неудачно.
Произошло это после того, как Квентин заметил, что он странно влюблен, ибо любит даму, ни разу не увидев ее лица, и поинтересовался у меня, бывает ли такое.
– Бывает,– уверенно кивнул я,– только потом, когда дама открывает лицо, частенько наступает разочарование.
– Ну что ты?! – возмутился Дуглас.– Разочарования не может быть. Да и принц не раз говорил мне, что у него очень красивая сестра. Да я и сам это чувствую. Она...– И он мечтательно закатил глаза.
Вид у него был столь уморительный, что, глядя на него, мне внезапно очень захотелось процитировать что-то ироничное из своего любимого Филатова. Ну, к примеру...
А попка у нее, как два арбуза,
Идущих следом повергает в шок.
Она для ткани явная обуза,
На ней едва не лопается шелк.
А бедра у нее...[85]
Впрочем, о бедрах я, скорее всего, договорить бы не успел. Возможно, что и о попке тоже, ибо был бы остановлен Квентином ранее, не исключено, что с применением физических усилий, а оно мне надо?
Но и на землю желательно вернуть. Парень безмятежно парит на самой верхотуре, забыв, что бог Амур, который вознес его туда, в отличие от ВДВ никогда не снабжает своих людей парашютами, а потому приземление у них всех даже в самом лучшем случае весьма и весьма болезненное. Этого, учитывая царя-батюшку, вообще придется отскребать от земли.
– Она такая...– продолжал Квентин нескончаемое восхваление никогда не виденных прелестей царевны Ксении.
– Пышная,– подсказал я.
– Воздушная,– поправил он, ничуть не обидевшись – даже странно.– Яко нежное облако парит ее красота надо мной в вышине. А очи... Какие у нее очи! Ты же видел, друг,– обратился он ко мне за поддержкой.
– Только половину,– честно констатировал я и, сохраняя максимальную серьезность, продолжил: – Кстати, мне показалось, что она все время смотрит на нас одним и тем же глазом – это странно. Может, второй у нее плохо видит? – высказал я предположение.– Или там вообще бельмо?..
– Сам ты... бельмо! – возмутился Квентин и опрометью убежал в свою комнату.
Вот и опусти такого на грешную землю. Нет уж, если человека тащит наверх Амур, то, как за него ни цепляйся, стараясь удержать, ничего не поможет. Слабоват я тягаться с богами.
Впрочем, на следующий день разговор продолжился. Квентин явно нуждался в том, чтобы выговориться, ибо чувства постоянно переполняли его, а иного собеседника, кроме прожженного циника и скептика Феликса Мак-Альпина, у него для этой цели не имелось. Причем продолжился он, будто вовсе и не заканчивался, то есть последовало очередное описание божественной красоты и снова со ссылкой на царевича Федора.
– Он смотрит на нее как брат, поэтому она и кажется ему красивой,– парировал я.
– Отчего ты сказывать про кажется, когда так оно и есть, ибо иначе... не может быть!
– Как кратко и ясно умеешь ты излагать свои мысли,– восхитился я и невозмутимо подвел итог: – Воистину логика влюбленного всегда сродни логике сумасшедшего.
– Ты издеваешься надо мной? – подозрительно осведомился шотландец.
– Ни боже мой,– твердо заявил я.– Более того, я тебе даже завидую.– И процитировал:
Чье сердце не горит любовью страстной к милой —
Без утешения влачит свой век унылый.
Дни, проведенные без радостей любви,
Считаю тяготой ненужной и постылой[86].—
Вот так и мне приходится влачить свой унылый век, подобно Омару Хайяму,– грустно констатировал я.
У Дугласа загорелись глаза.
– Ты можешь мне поведать еще что-то из сочинений сего великого пиита?
– Пить вино – запрещено...– начал было я, но потом хлопнул себя ладонью по лбу и улыбнулся.– Тебе ж про любовь надо, мой юный друг, а про любовь я почти ничего не знаю. Увы.– И развел руками.
И снова врал. Знал я, и очень много знал.
С избытком.
И из Хайяма, и из Данте, и из Петрарки с Шекспиром, не говоря уж про отечественных. Тому же Квентину за глаза хватило бы школьной программы во главе с Пушкиным и Лермонтовым, но оно было съехавшему с катушек шотландцу ни к чему.
– Неужто ни одного?! – огорчился он.
– Неужто,– лаконично ответил я.
В последнее время я предпочитал вообще обходиться в разговоре с ним краткими, лаконичными фразами, чтобы, упаси бог, он не узрел в них этот самый второй или третий смысл, которого не имелось и в помине, и не прицепился ко мне как репей.
Правда, помогало мало. Он все равно исхитрялся это сделать.
Стоило мне как-то вскользь сочувственно заметить ему, что женщины вообще по своей натуре склонны не обращать внимания на то, что для них стараются сделать, но зато всегда зорко подмечают, чего для них не делают, как он тут же придрался к моим словам:
– Нет, ты не можешь так о ней судить,– твердо заявил он.– Тебе не дано, ибо ты никогда не любил.
От такого нахальства я даже поперхнулся сбитнем и закашлялся, а он, правда вначале заботливо похлопав меня по спине, продолжил:
– Ты холоден, яко лед.
– Что делать,– вздохнул я и, пытаясь увести разговор в более безопасное русло, добавил: – Наша жизнь подобна состязаниям. Отважные приходят на них сражаться за победу, жаждущие выгоды – торговать, а удел философов – смотреть на них со стороны.
– Сказано умно,– одобрил Квентин и незамедлительно съязвил: – Пожалуй, даже слишком умно, чтобы ты мог сам это придумать.
Кому-то это могло показаться не более чем дружеской подковыркой, но я не заблуждался. Тон был вызывающим, откровенный вызов читался и в его глазах. Словом, парень явно напрашивался на скандал.
Как знать, возможно, хорошая трепка и впрямь пошла бы ему на пользу, но я не мог себе этого позволить. Бить влюбленного все равно что бить ребенка. И то и другое – величайшая подлость.
Поэтому, хотя оно и стоило мне некоторого труда, я не просто сдержался, но и сохранил спокойный, дружелюбный тон.
– Ты прав. Это сказал Пифагор, но от этого я не перестаю тоже быть философом. А тебе стоило бы вспомнить другую мудрость, гласящую, что любовь всегда бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, сама кидается на шею.
Квентин озадаченно уставился на меня, задумался, после чего медленно произнес: