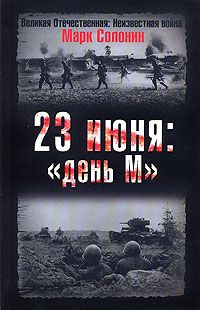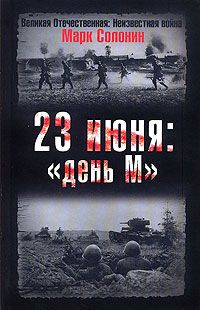Владислав Русанов - Гонец московский
У заставы, на выезде из смоленского посада дорогу по-прежнему преграждала рогатка.
Рядом с уже знакомым Вилкасу седобородым Яковлевичем торчал еще один – невысокий, плечистый, напоминавший гриб-боровик или желудь, с медно-рыжей бородой, в которой выделялась седая прядь, будто бы мужик сметану пил прямо из горшка и, что называется, «по усам потекло». Он внимательно и цепко глядел на приближающихся всадников.
– Поздорову вам, братья-смоляне! – поприветствовал стражу Семен.
– И тебе не хворать, боярин, – откликнулся рыжебородый. Остальные «кучковались» за его спиной и не торопились убирать рогатку.
– А что это в град Смоленск проще въехать, чем обратно выбраться? – Тверич натянул поводья, и аргамак заплясал, выгибая шею дугой, в шаге от стражников.
– Аль провинились мы чем? – Вороной Пантелеймона поравнялся с конем Семена Акинфовича.
– Не серчай, боярин, – нахмурившись, проговорил Яковлевич. – Оглядеть бы твоих людей надобно…
– Это еще зачем? Они у меня не товар заморский и не девки на выданье, чтоб их оглядывать!
– Приказ князя Александра! – коротко бросил рыжебородый. – Всех выезжающих из Смоленска проверять.
– Ну, ежели князя Александра… – развел руками Семен. Усмехнулся со злым прищуром. – В тороках тоже искать будешь?
– Обижаешь, боярин. Мы людей выглядываем. Аль ты кого-то по частям вывозишь из города?
Тверичи расхохотались. Удачная шутка рыжебородого быстро расположила их и свела на нет обиду от дотошной проверки.
– Гляди, чего уж там! – махнул рукавицей Семен. – Как тебя звать-то? – спросил он как бы между прочим.
– Твердилой меня кличут… Я из дружины Ильи Приснославича, – сдержанно поклонился рыжий.
– Ищи, Твердила!
Смоленский дружинник пошел вдоль конного строя, внимательно всматриваясь в лица тверичей.
Вилкас почесал затылок. Где-то он уже слышал эти имена. Илья Приснославич, Твердила…
Он легонько толкнул пятками пегого и подъехал к стражникам.
– Кого ищут-то, Яковлевич?
– Откуда мне знать? – не слишком дружелюбно отозвался седобородый. Потом, видимо узнав литвина, смягчился: – Да сбежали двое каких-то… оборванцев.
– Подумаешь! Оборванцы сбежали! Не велики птицы, чтобы их княжеская дружина ловила.
– То не нашего с тобой ума дело. Приказали – ловим, прикажут не ловить – не будем.
– Понятно, – кивнул Вилкас. – Служба княжеская.
– То-то и оно, – слегка улыбнулся смолянин. – А ты, я гляжу, к тверичам прибился?
– Проводником нанялся. Жить-то надо как-то? Верно?
– Верно. А друзей ты своих нашел?
– Нет, Яковлевич. Не нашел.
– Плохо.
– Да чего уж хорошего…
– Ну, ты ищи. Бог даст, встретишься еще.
Вилкас перекрестился, привычно оглянувшись на храм Иоанна Богослова:
– На Господа только и уповаю.
Вернувшийся Твердила мотнул головой, указывая стражникам на рогатку: убирайте, мол. И отвернулся, не уважив боярина ни извинениями, ни словами прощания.
Нисколько не расстроившись, Семен отпустил повод аргамака, с места перешел на рысь. Смоляне едва успели отскочить в сторону.
– Слышь, Акинфович, что скажу… – Литвин нагнал его, пристроился бок о бок.
– Не надо. Я уже и так все понял, – боярин подмигнул. – Ушлые у тебя друзья. Я бы от таких помощников не отказался.
Вилкас улыбнулся в ответ.
Копыта коней били по утоптанному снегу. Морозный воздух забирался за ворот. Дорога разворачивалась скатертью-самобранкой, будто говорила, что приключения еще не закончились. Напротив, они только начинаются. Все еще впереди, а все, что было раньше, всего лишь завязка истории.
Эпилог
Дороги, русские дороги… Тянетесь вы от города к городу, от села к селу, как руки с раскрытыми ладонями; извиваетесь вдоль берегов рек, ныряете в распадки, огибаете овраги и холмы; минуете березняки и ельники, дубравы и ольшанники, пересекаете луга, поля и степи. То вы прямые, будто копье, то петляете, как след русака на первой пороше. Зимой вас укрывает снег, по которому скрипят полозья санных обозов, летом разбивают в пыль копыта и тележные колеса. Топят вас вешние воды и заливают осенние дожди.
Дороги помнят величие Киевской Руси: походы суровых и отчаянных воинов князя Святослава на Царьград и Тмутаракань, тяжкую поступь полков Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Вы стонали под ударами крепких копыт печенежских и половецких коней, гулко пели от радости, когда с победой возвращались русские дружины, и плакали, принимая на свои плечи скорбный груз – последствие неудачных сражений. Помните вы и раздор между князьями русскими, великую междоусобицу и братоубийственные войны, как шли Ростиславичи[142] на Ольговичей[143], резали друг дружку сыновья Всеволода Большое Гнездо. В те черные дни русские князья призывали на помощь половцев, мадьяр и поляков, чтобы только одолеть такого же русского князя.
А после тьма упала на землю Русскую. Несли ее на остриях копий и стрел узкоглазые, необузданные всадники, пришедшие с востока – из-за Оксианы[144], из-за Итиля-реки, говорят люди, от самых чиньских земель, опоясанных неприступной стеной. Умирали русские люди под градом толстых, метких стрел, горели города: Суздаль и Рязань, Владимир и Переяславль, Киев и Москва, а с ними Торжок, Козельск, Пронск, Коломна, Галич… Монгольская орда прокатилась по Руси и схлынула, оставляя после себя пепелища, а вдоль дорог белые остовы, обглоданные волками и расклеванные воронами.
Безлюдно стало на дорогах. Зарастали они бурьяном и лопухами. Лишь изредка проскачут ватаги оружных людей: то княжеские люди, то ордынцы, то лесные разбойники. Когда-никогда проползет обоз. И то все больше с данью для Орды.
Некоторые, некогда торные, пути и вовсе исчезли, умерли – ведь для дороги равносильно смерти, когда по ней перестают ходить. Сани и телеги, конские копыта и коровьи, сапоги и лапти торят вас, не давая исчезнуть, стереться с лика земли и из памяти людской… Движение питает дороги, как вода поит древесные корни. На год-другой воцарится тишина да запустение – оплывет накатанная колея, пойдут в наступление окрестные леса. Сперва передовые отряды – трава, за нею – побеги и кустарник: орешник, малина, ежевика. А уж после встанут главные силы – деревья расправят плечи, как ближняя дружина великого князя, и заступят дорогу любому страннику.
Но в последние годы Русь начала подниматься с колен. И хотя князья по-прежнему ездили в Сарай за ханскими ярлыками на правление, горожане не раз и не два собирали вече, требуя изгнать ненавистных захватчиков. Восставали люди в Ростове и в лето шесть тысяч семьсот девяносто седьмое от Сотворения мира изгоняли князя вместе с баскаками. Не отстали от них и тверичи – через четыре года, учинив смуту, заставили бояр целовать крест, обещая «черному» люду, что будут плечом к плечу биться с захватчиками. И прогоняли татарву, где только могли. Не зря потом Дюденя на Русь ходил и реки крови русской пролил, множество пленных увел. Восставал народ и в Угличе, Устюге, Ярославле и Переяславле.
Правда, сил бороться против Орды пока не хватало, но зато люди стали жить богаче: больше хлеба, дичи, меда, мехов, железа появлялось на торжищах. Все чаще стали заезжать во Владимир, Москву, Киев, Новгород Великий гости-купцы из западных, из восточных и даже из дальних южных держав. И дороги начали возрождаться. Вырастали вдоль них, как грибы, постоялые дворы и дома корчемные. Подновлялись мосты. Вновь раскрытые ладони по-дружески потянулись от веси к веси, от города к городу, а там и в соседние державы: к литвинам и полякам, к мадьярам и валахам.
Тянулись обозы, санные и колесные, рысили дружины княжеские, шагали пешие ратники, скакали гонцы, разнося добрые и дурные вести, семенили монахи на богомолье к чудотворным иконам и заветным мощам.
И в этой круговерти странников и путешественников немудрено было затеряться. Ведь не зря говорят старые люди, что легче всего спрятать дерево в лесу, колосок в поле, а человека – в толпе.
Неподалеку от Могилева остановились на ночевку московские дружинники. Известное дело. Кони притомились и отощали. Емельян Олексич устроил разнос молодому воину Ваньке по кличке Рыжик за наминку, обнаруженную на холке серого в яблоках скакуна. Молодой боярин так разошелся, что даже отвесил нерадивому подзатыльник, а после приказал старому Любомиру доставать из тороков лечебные мази.
По дороге на Витебск неспешной рысью – так, чтобы раньше времени не заморить коней, – ехали четверо всадников. Трое молодых, не отличающихся богатырским сложением и ростом. Раскосые глаза одного из них выдавали ордынца. В хвосте тянулся круглоголовый седобородый дед, недовольно морщивший нос и все время бурчавший себе под нос. Первые два дня пути он говорил вслух, доказывая сумасбродность затеи, пока Василиса не прикрикнула на него и не пообещала отослать назад, в Смоленск. На это Мал ответил, что, во-первых, не желает, чтобы Александр Глебович с него живого шкуру спустил на голенища для ближней дружины, а во-вторых, ни за что не оставит девчонку наедине с двумя сорвиголовами, невесть откуда заявившимися, – от них любой каверзы ждать можно. И остался.