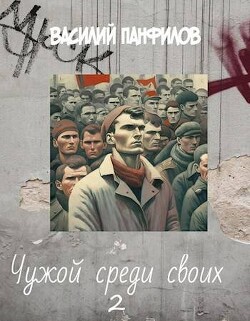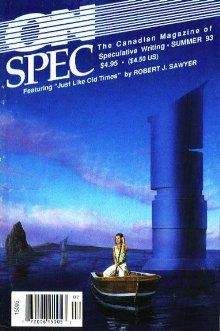Старые недобрые времена (СИ) - Панфилов Василий Сергеевич "Маленький Диванный Тигр"
Но даже не музеи… какой уж там Эрмитаж в 1856, какие музеи⁈ Просто пройтись по улицам, полюбоваться дворцами и особняками, доходными домами и одетой в гранит набережной всё некогда…
… а то и нельзя! Стоит свернуть не туда, а то и просто остановиться, задрав голову, как уже спешит если не полицейский, которых здесь, в столице, на каждом углу, так дворник с метлой наперевес — и это, поскольку они почти все из отставных солдат, совсем не смешно!
Это потом Петербург станет культурной столицей и городом, в который будут приезжать туристы со всех концов света. А пока…
Да собственно, он и сейчас хорош! Просто не для всех.
Согревшись, он вышел прочь, задержавшись напоследок в дверях и глянув назад так, будто захотел навсегда запечатлеть это в памяти. А потом, уже не оглядываясь, ушёл прочь… дел на сегодня у него достаточно, нужно всё подготовить так, чтобы потом — без запинки, без заминки…
… нет у него возможности ошибаться! Нет!
— Ох-х… — выдохнул он и сел на топчане, протирая руками лицо, — последний…
Не договорив, он замолк, чтоб не сглазить… да и у стен уши бывают!
— Доброго утречка! — поприветствовала его встреченная в коридоре Глашка, — Ва-ань… ну ты чево? Обиделся, што ли? Я ж тогда на всё для тебя согласная была, а што ты не хотел, так сам виноват…
Отмахнувшись от неё, прошёл на кухню, куда та не сунулась — здесь чужая территория, у горничных с кухонными девками отношения не самые простые. Мирятся и ссорятся они по несколько раз на неделе, и разбираться в этом… увольте!
— Доброе утро, Авдотья Степановна, — поздоровался паренёк с кухаркой, — как здоровьичко?
— Твоими молитвами, Ванюша, — расцвела та навстречу, — садись, поешь как следоват! Я вот пирожочков с капусткой сделала, как ты любишь! Ма-ахонькие… на един укус!
— Ох, да не стоило… — засмущался лакей.
— Да рази это труд? — отмахнулся от него дебелая тётка, — Я те и в дорогу собрала с собой, а то знаю я, как там, на постоялых дворах-то, кормят!
Получасом позже, выйдя из особняка на Гороховой, Ванька оглянулся — лишь раз, но очень долго, и пошёл размашистыми шагами прочь — быстрее, быстрее… ещё быстрее! Отойдя на достаточно расстояние, он нырнул в подворотню, тёмную в виду раннего зимнего утра…
… и через минуту из неё вышел уже не слуга из доверенных, а прилично одетый мещанин.
Поймав извозчика, он велел тому ехать в меблированные комнаты, славные своими тараканами, грязью, да тем, что хозяйка не задаёт лишних вопросов и не спешит, за малую мзду, регистрировать постояльцев в полиции.
— Ф-фу ты… — заперев хлипкую щелястую дверь, он привалился к ней и некоторое время стоял на подгибающихся ногах. Собравшись наконец, прошёл в комнату, кинул пальто на стул и с размаху упал на жалобно скрипнувшую под ним кровать.
За окном начал заниматься робкий рассвет, серый и тоскливый, как его жизнь. Свет, с трудом пробиваясь сквозь грязные, отродясь не мытые окна, освещает убогую конурку. Мебель вся старая — так, что ещё чуть, и совсем только на дрова, да и всё здесь старое, вылинявшее, вытертое, взятое не иначе как у старьёвщиков в незапамятные времена.
Одни лишь рыжие тараканы освежают убогую обстановку, выстраивая своими лощёными телами причудливые мозаичные композиции. Непуганые, чувствующие себя хозяевами меблированных комнат, они будто бы с осуждением взирают на постояльца, досаждающего им своим присутствием.
Усмехнувшись криво, Ванька разделся, достал из большого холщового мешка саквояж и прочие вещи, и, быстро переодевшись на ледяном сквозняке, принялся наводить последние штрихи на собственном портрете.
О собственно еврействе в его новой личине не говорит почти ничего, за исключением мелких деталей в одежде и облике — так здесь, в Петербурге, часто одеваются те из них, кто ещё не крестился, но, но, по крайней мере, не желает вызывать раздражение прохожих.
— Ах ты ж… — руки подрагивают не то чтобы сильно, но достаточно для того, чтобы исколоть себе пальцы иглой, но документы, а вернее, часть их, всё ж таки зашиты в подкладке пальто и сюртука. Часть работы попаданец проделал ещё в особняке на Гороховой, пришив в стратегических местах разного рода кармашки и укрепив подкладку, но распихивать всё честно награбленное там же он побоялся. Объём распиханного получается достаточно солидный, и кто-то из слуг, оказавшись слишком глазастым, мог удивиться, как это Ванька так разожраться-то успел⁈
Взглянув на паспорт, выписанный на имя жида, поморщился — вроде и мелочь, а досадно.
— Ладно… — ничуть не символически сплюнул он на грязный пол, — переживу.
Досада на жидовский паспорт тем более острая, что была возможность получить от хозяина паспорт, с которым он, Ванька, смог бы вполне легально выехать в Финляндию, на… х-хе, осмотр дач. Но не срослось, увы.
А так бы… перешёл бы границу, да и скатертью дорога! В легальном статусе, да с кучей паспортов и чистых бланков… неужто бы не сообразил⁈
Теперь же приходится хитрить, выгадывая всякие мелочи на тот случай, если его границе вдруг завернут…
… так, чтобы можно было попытать счастья в другую смену, под другой личиной и с другим паспортом. А для этого приходится стелить соломки со всех сторон…
Да всё та же меблированная комната — чтобы была возможность оставить какие-то вещи, вернуться, буде если это понадобиться, перевести дух перед следующей попыткой.
Хотя он отчаянно надеется, что она, эта попытка, не понадобится, но… а вдруг⁈
— Ну… — наведя последние штрихи, он придирчиво осмотрел себя перед небольшим облупленным зеркалом, висящим над покосившимся комодом, сглотнул и перекрестился, — с Богом!
Подхватив саквояж, вышел чёрным ходом, отчаянно надеясь, что возвращаться ему не придётся…
Народу на пограничном пункте, по зимнему времени, совсем немного. Это позже, когда начнёт таять снег и пробиваться первая трава, в Финляндию потянутся первые дачники, вывозящие обозами мебель, домашних слуг и родных, собак и кошек, попугаев и облезлые фикусы, а то и пальмы.
С собой у выезжающих будут документы о наличии собственности в Великом Княжестве Финляндском, или договора об аренде таковой, а в паспорта глав семей будут вписаны жёны и дети. Всё это будет скрипеть, ржать, мычать, орать благим матом, потому что болит животик, и обещать офицерам и унтерам пограничной таможенной стражи всякое нехорошее, если они немедля…
… и минутой спустя стелиться, заискивать, класть в протянутую руку нужную сумму и улыбаться так фальшиво и так широко, как это только возможно.
Но это — потом… а сейчас на стылом февральском ветру несколько петербургских финнов, едущих в Княжество по какой-то надобности, молодой разночинец, кусающий губы и нервно поглядывающий по сторонам, и он, Ванька…
… то бишь Моисей Израилевич Гельфанд, собственной необрезанной персоной.
— Заходи давай, — позвал наконец его часовой, и Моисей, сладко улыбнувшись ему, просочился в приоткрытую дверь, ведущую в домик пограничной таможенной стражи.
Внутри жарко натоплено, накурено и натоптано, и, помимо табака, пахнет чем-то неуловимо казённым.
— Прошу прощения господина… — закланялся попаданец при виде сытого ефрейтора в коридоре, — мне бы кому документы…
Хмыкнув, тот ответил не сразу, поковырявшись для начала в зубах.
— Ваше Благородие, — крикнул он наконец, — тут жид до вас! Впускать?
Разрешение было получено, и попаданец, потея от жары и волнения разом, был допущен в святая святых, то бишь большую комнату, где, помимо поручика и писаря при нём, наличествует ещё и унтер разбойного вида, сидящий чуть поодаль и одним своим видом наводящий тоску.
— Вот, Ваше Высоко… — не договорив, улыбаясь льстиво, Ванька с поклонцем подал свои документы поручику.
Тот, мельком глянув на них, отмахнулся рукой, указав на плотоядно улыбающегося унтера, стоящего чуть в отдалении. Покивав мелко и поулыбавшись сладко, попаданец засеменил в указанную сторону, заискивающе улыбаясь и вытянув перед собой документы.