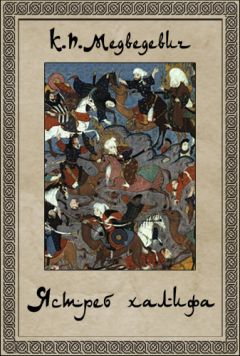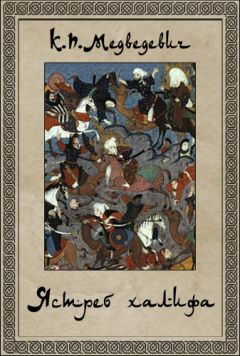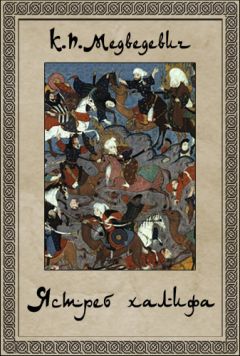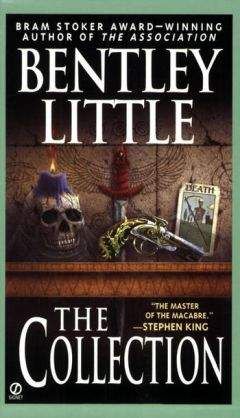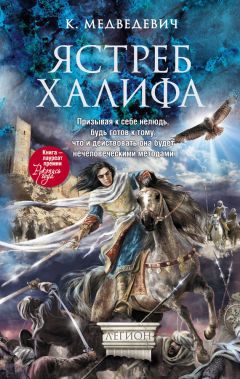К. Медведевич - Ястреб халифа
Сцапав, наконец, платок, он зажал нос и снова осмотрел предательскую левую руку. Царапины саднили и продолжали кровить. В глазах у него все поплыло, но нерегиль стиснул зубы и справился с головокружением.
— Пора, — сказал он сам себе и отнял промокший платок от носа.
Кровь остановилась. Тарег умылся водой из смотрильной чаши — браслет он вынул и положил обратно в рукав, — сполоснул отозвавшуюся немедленной болью руку и туго обмотал ее оставленной Махтубой полотенцем.
Через мгновение в комнате уже никого не было — только качнулась занавесь в проеме мирадора. А еще через несколько мгновений на улице послышался дробот копыт.
Фиолетовый квадрат платка с кучей вещей остался лежать прямо посередине комнаты, сиротливо переливаясь в свете трех мигающих свечек. Из сада потянул ветерок — и свечки погасли.
Утро застало его в долине Дейлема: поросшие соснами и каменным дубом холмы по обе стороны вздыбливались горами — над перекатами быстрой мелкой речки хребты Биналуда прощались с отрогами Аль-Сурейя. Желто-рыжие выкрошенные скалы опадали в долину причудливыми обломками. Там и сям на уступах виднелись построенные из такого же камня низкие большие дома, крытые красноватой черепицей, — казалось, они хотели слиться с камнем и спрятаться от чужих взглядов. Над некоторыми вилаятами еще курился дымок — и это не был дым очага. Дейлемиты слыли упрямым и непокорным народом — и халифской гвардии пришлось в этом убедиться. Каждая аталайя, и каждый вцепившийся в скалы дом отчаянно сопротивлялись. Говорили, что из Дейлема войска не привели ни одного пленника — все жители предпочли сражаться и умереть, чем по-верблюжьи склонить колени и отправиться на невольничий рынок.
Замок Калатаньязор пал еще неделю назад — над его обрушенной стеной и тремя уцелевшими башнями уже не дымил пожар. Тарег поднял взгляд к очерку крепости-хисна на плоской вершине громадной скалы — прямоугольная сторожевая башня четко вырисовывалась прямо над маленькой круглой воротной, дальше шли зазубрины обвалившейся стены — и упирались в мощный силуэт тяжелой махины главной башни. Солнце золотило одну сторону наискось развернутого к долине прямоугольника, в высоченной стене чернела высокая прорезь окна.
Над вымершей долиной кружил орел. Тарег посмотрел ему вслед и опустил голову — грива Гюлькара потемнела от крови. Видимо, опять потекло, и потекло давно. Конь замотал мордой. Нерегиль похлопал ладонью по серой теплой шее — и запачкал кровью благородную шкуру сиглави.
Голова кружилась. Кругом не было ни души.
— Я глупец, Гюлькар, — прошептал самийа. — Самонадеянный глупец…
Сначала он не придал этому никакого значения — подумаешь, от кровотечения из носу еще никто не умирал, так шутили маги нерегилей. И лишь сейчас, в залитой утренним светом мертвой долине, Тарег осознал, что это, пожалуй, конец. Надо же, мелькнуло в голове, я так долго бегал за смертью, а когда она подкралась и встала за плечом, я ее не заметил.
В нем не осталось ни капли силы. Видимо, он сбросил в чашу последние отжимки — и опять таки этого не заметил. А ночью он попытался вызвать светящийся шарик-фонарик — на дороге попадались и камни, и ямы, Гюлькару приходилось обходить их вслепую — и вот тогда-то потекло снова. И из носа, и из ладони. В глазах смерклось, и Тарег, пошатывающийся в седле медленно плетущегося коня, не сразу понял, что наступило утро.
— Не хочу умирать на дороге, — прошептал он солеными от крови губами.
И поддал Гюлькару в бока, натягивая повод и разворачивая коня к тропе, начинающейся за ближайшим холмом. Над ним охряные каменистые осыпи округло упирались в бастионы и выщербленные контрфорсы желтых источенных скал.
…На заваленном обломками дворе замка Тарег отпустил Гюлькара. Конь коротко ржанул и, по петушиному распустив хвост, дробно поскакал к почерневшей арке ворот. Пошатываясь, нерегиль направился к разбитым деревянным дверям над ступенями главной башни.
Оказавшись внутри, он поплелся наверх — видимо, это было что-то природное, что-то, что звало его подняться еще на одну ступеньку, еще выше, еще на один ярус. Потом он увидел то самое окно — черная узкая прорезь изнутри башни раскрывалась высоченным, в его рост проемом. В проеме не было ничего, кроме неба.
Тарег отлепил ладонь от стены и вошел в комнату. В ней было пусто и пыльно. В прямоугольнике света нерегиль остановился. Опустился на колени и, постояв так несколько мгновений, плашмя завалился на бок.
Из старинных хроник и рассказов:
"Однажды в маджлисе халифа аль-Муктафира би-ллах собрались самые знаменитые мужи Аш-Шарийа. И эмир верующих, который в ту пору был молод, спросил:
— Можете ли вы рассказать мне о случае, когда вы были близки к смерти настолько, что никакой надежды на спасение не оставалось, а от лезвия меча ангела Азраила вас отделял волосок не толще шерстинки асмодийской овцы?
И тут все посмотрели на Тарика — а тот задумался.
— О аль-Мансур! — воскликнул молодой халиф. — Прости, видно, мои слова пробудили в тебе тяжелые воспоминания. Ты, верно, снова видишь себя на той скале над Вардуном!
Но аль-Мансур лишь покачал головой.
— Ты ошибаешься, Муса, — отвечал он в своей манере, как отвечал он всем халифам Аль-Шарийа, которым служил. — Я думаю не о том ущелье. И не о площади перед дворцом Ад-Дар аль-Азиза за месяц до того. И даже не о моем времени на Островах Страха, когда однажды случилось так, что лики сбросили меня с корабля в воду подобно лишнему грузу.
— Где же ты был ближе к смерти, чем в перечисленных обстоятельствах? — удивился эмир верующих.
— В долине Дейлема много веков назад стоял замок по имени Калатаньязор. Сейчас от него даже камней не осталось — но каждый раз, когда я проезжаю мимо той скалы, я вспоминаю, как оказался там лицом к лицу со смертью.
— Что же там с тобой приключилось? — снова удивился халиф — ибо среди многочисленных рассказов о подвигах Аль-Мансура не было ни одного про замок Калатаньязор.
— То, о чем ты спрашивал — я чуть не умер, — ответил Тарик. — Потом я не раз целовал смерть в губы через покрывало — но я знал, что мне предстоит, и со мной всегда стоял кто-то рядом. В Калатаньязоре я был один, а смерть подступила неожиданно. И, что хуже всего, она приблизилась ко мне посреди пустыни, которую я устроил собственными руками.
Ибн Кутыйа, "Рассказы о знаменитых мужах Аш-Шарийа"
…- О Абу-аль-Саиб, прочти мне самые пленительные стихи о неразделенной любви, когда-либо сочиненные детьми ашшаритов! — вздохнув, обратился Аммар к своему придворному поэту.
И Абу-аль-Саиб аль-Архами подумал с мгновение и прочел:
— Проходит в красном, ранит сердце взором
И кажется мне смертным приговором.
Ее наряд насквозь пропитан кровью,
Как будто бы окрашенный сафлором.
Пальма над головой халифа шелестела тонкими длинными листочками. На лужайке по его приказу не оставили ни одной лампы — все они горели на ступенях мраморной лестницы, полого ниспадающей сюда, к нижней террасе сада. В посдвеченном теплыми огоньками сумраке драгоценное золотое шитье на черном бархате достархана казалось еще тоньше и затейливее — рассказывали, что мастерица вышивает эти головокружительные затейливые изломы и узоры одной ниткой, ни разу не обрывая ее после того, как начнет работу. Равно посередине скатерти в золотой оправе тепло круглился аметист — камень, предохраняющий от опьянения. Аммару же было не до осторожности в этот вечер: сердце ныло, и одуряющая тоска — то ли безделье давало себя знать, то ли отсутствие вестей об Айше — накатывала тяжелыми, оглушающими волнами.
Молодой халиф покачал головой — нет, мол, не то. И сказал, поднимая чашку — невольник тут же наклонил над ней кувшин:
— Вот стихи, которые лучше подойдут к случаю.
Узнать бы мне, кто же она, быть может, посланница солнца,
А может быть, призрак луны, мелькнувший в лазури безбрежной?
Кто знает, быть может, она — моя сокровенная дума,
А может быть, образ души, причуда тревоги мятежной?
А может быть, это мечта, возникшая вдруг перед взором,
Моею душой рождена в своей очевидности нежной?
А может быть, морок она, вернее, предзнаменованье
Судьбы, угрожающей мне, и смерти моей неизбежной?
И Аммар лихо глотнул из чашки. В книгах наставлений говорилось, что к вину следует приступать, предварительно поев. Этой ночью он пренебрег наставлениями — впрочем, как и остальные участники попойки под кипарисами и пальмами садов аль-касра. Исбилья славилась своим ночным воздухом — он навевал странные желания и томительную тоску без названия, когда то ли хочется вскочить на рыжего кохейлана и помчаться в песчаные дюны пустыни, то ли выхватить джамбию и располосовать ей все подушки, представляя себе, что буря перьев и пуха — это крики и мольбы умирающих врагов. Ну или…