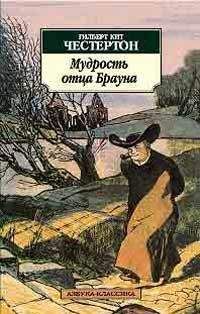Роман Злотников - Пушки и колокола
– Благодарю тебя, отче, – склонился в ответ преподаватель.
– Ступай. Два дня вам сил набраться, да далее пойдете. Князь уж ждет.
Пользуясь возникшей паузой, несколько раз ходил Некомат к Сергию самому на исповеди.
– Ох, и зачастил, – в очередной раз заприметив, как их новый знакомец из исповедальни выходит, проворчал Милован.
– А ты того мне покажи, что без греха, – отвечал Булыцкий.
– Твоя правда.
– Епитимью на него Сергий наложил: в монахи постричься через год. Живот сохранит ежели… А до того – послушание строгое, пост и воздержание.
– Чудить, думаешь, опять начнет?
– Кто знает? Сам же говаривал там, на озере: мол, чую, что век короток.
– Что зверь дикий, людина, – задумчиво проговорил Милован. – Лиходействовал, пока видывал, как люди уходят. По-разному бывало. Кто зов смерти чуя, весел становился да до потех охоч, пусть бы и срамных. Кто, напротив, зол, да тучи черной смурнее, да с другими от того лют. А кому и все одно было. Говаривали только: завтра – на встречу с Богом. Так и уходили. Молча да покойно. Третьяка-то помнишь? Того, что медведь задрал?
– Кажись, да.
– Из угла красного не вылазил день весь. Все молитвы читал да поклоны бил. Знать, тоже почуял, что на Калинов мост пора.
– Нечего тут сказать, – пришелец тяжко выдохнул.
– Никола, а Никола, – осторожно окликнул Милован.
– Чего тебе?
– Слышь, Никола, а там… У тебя… В грядущем. Как оно? Как люди Богу души отдают?
Булыцкий лишь пожал плечами.
– Как, как? Был человек, и не стало его. За беготнею своею мало кто зов смерти чует. Мож, только старики, да и то – не все. Да и смерть, особенно чужую, мало кто замечает. Был человек, и не стало его. Да и в Бога мало кто верит. Мол, век откоптил – и все. Приехали. Потому и живем: завтра – хоть огнем гори. А о смерти думки, так те – со страхом в душе. Карабкаемся. Руки-ноги в кровь, лишь бы хоть и день божий, а у смерти сторговать.
– А благочестие? А страх божий?
– А нет страху и нет! Есть охота до кунов да почестей. Каждому желанна мечта самому пристроиться да родню подтянуть, хоть бы и дадоны, но свои зато.
– Срам! Грех! – замотал головой бородач.
– Еще чего знать желаешь?
– Благодарствую, Никола, довольно! Сыт. А тебе Богу хвалы вознести надобно, что самого из греха вытащил, да сюда… Знать, накопил их, окаянных, суму полную, что только других спасая, искупить и можно.
– Думаешь?
– А как иначе? – искренне удивился бывший лихой. – Ты погляди – душ сколько уберег?! А диковины твои?! Да и сам, – дружинник с уважением поглядел на товарища, – окреп. Вон, как сюда угораздил, так и беспокойный был: чуть что – в ор. Посмотреть, так весь, как детинец твой, копьями ощетинившийся. Сутулился, плечи вперед, что медведь. И не подойти. А сейчас – глядеть любо-дорого! Выпрямился, орать не орешь почти. Сам спокойный, да при бабе, да при детях, да при хозяйстве. Все чин чином. Знать, Богом грехи-то твои помаленьку, да прощаются.
– Может, и прав ты, – не видя, что сказать против таких аргументов, крепко задумался Николай Сергеевич.
– Здравы будьте, – разговорившись, и не заметили они подошедшего Некомата.
– И тебе – Бог в помощь.
– Слыхивал я, завтра в Москву собираетесь.
– Княжич окреп уже, можно и дальше двигаться.
– С вами я, – поколебавшись, негромко, но твердо молвил тот. – К Дмитрию Ивановичу на глаза, что ль. Прощение его надобно.
– А в поруб не боишься? – Булыцкий удивленно поднял бровь. – Или за Ванькой Вельяминовым пойти? Князь Московский обид долго не помнит, но и горяч иной раз бывает.
– Боюсь, – чуть подумав, кивнул тот. – Но еще больше – без прощения остаться. Без его да без Михаила Александровича, – тихо, так, что и едва услышали его товарищи, закончил он.
– Сергий наказал?
– Душа просит. Можно, что ль, души зов не слушать-то?
– Неужто и впрямь веришь, что откоптил свое?
– Сон был, пока дух из тела. Когда шторм от рабства генуэзского избавил. Помнишь, что ль, рассказывал-то? – Друзья утвердительно кивнули, но Некомату в общем-то все равно было. Погрузившись в воспоминания, он, казалось, уже и не здесь был. – Бог тогда наказал: до зимы времени тебе. Грехи замолить успеешь – твое счастье. Страшно стало, не поверишь. Думал поперву, в монастырь, а тут вас встретил. Не ясно, что ль? Поперву вашего прощения испросить, а потом уже и монашествовать. С вами как условились, снова в схимники податься вздумал. А тут – сон. «Что ль, думаешь, все сделал? А ты припомни, обиды кому большие учинил?» А долго, что ль, размышлять? Вон, князей Тверского да Московского стравил. Так к ним, стало быть, и за прощением. Возьмете?
– А как откажем?
– Так сам пойду!
– А как в пути померзнешь?
– С Божьей помощью, дойду, – сурожанин упрямо мотнул головой. – Хоть на света самого край!
– Добро, – чуть подумав, кивнул Булыцкий. – Возьмем да Дмитрию Ивановичу на глаза покажем. Дальше – не обессудь. Как Бог рассудит, так тому и быть.
– Благодарю, люди добрые, – купец в пояс поклонился благодетелям.
– Бога и благодари, что на путь наставил истинный.
На следующий день колонна выдвинулась дальше. Шли шибко, пытаясь хоть как-то наверстать упущенное время. Впрочем то скорее, для самоуспокоения, что ли. Ну на самом деле: полверсты больше, полверсты меньше за день?
В дороге уже встретили гонца, весточку принесшего, что Великий князь Литовский Витовт в дар князю Московскому удел Вяземский отдал. В благодарность за помощь и в знак уважения. А раз так, то, захватив с собою бояр подмосковных, тех, кого сам возвысил, да тех, кого собирать долго не надо, зайдет Дмитрий Иванович в земли новые. Там, бояр своих поставив, будет готовить его сыну меньшому, в надел чтобы передать[102]. Василию Дмитриевичу туда же явиться должно с людьми самыми верными. Потешники пусть в Москве остаются да к смотру княжьему готовятся в честь прибытия гостьи важной.
В дороге Дмитрий Иванович на ямах обещал лошадок оставлять. Так, чтобы быстрее ветра летел Василий Дмитриевич да к сроку был.
Честно сказать, екнуло сердце у пенсионера, как весточку прочел. И в самом деле: на кой бельмес дарить надел, наперед зная, что все одно – княжеству единому быть, хоть и через года. Впрочем, Дмитрий Донской ведь так же поступал, когда Смоленское княжество литовцам сватал, хотя бы и в обмен на Тверское. Знать, ответный реверанс. Только той мыслью себя и успокоил Николай Сергеевич. Впрочем, все равно на душе кошки скребли.
– Не поспеть, – прочитав весть, Милован лишь помотал головой. – Пешими – ни в жизнь.
– Верхом – не пойду! – Булыцкий отчаянно замотал головой, вспомнив, с какими муками дался ему верховой переезд из Москвы в Переславль-Залесский. И хоть с тех пор и времени прошло, и пенсионер каждый Божий день время находил, чтобы поупражняться в навыках верховой езды, а все одно: чувствовал, что не осилит.
– Саней, что ли, нет? – резонно заметил бородач. – Из обоза и возьмем. Вон, у Ивана Родионовича и спросим. Ему, – усмехнулся бородач, – сейчас перед Дмитрием Ивановичем ох как постараться надобно, грешки чтобы замолить. До Москвы долетим ветра шибче. Иначе – беда!
На том и решили. Перекидав амуницию и освободив трое саней, Василий Дмитриевич в сопровождении Милована, Булыцкого, Тита, Некомата, накрепко прилипшего к ним отца Фрола и, несмотря на вялые протесты священнослужителя, взяв в сопровождение Ивана Квашнина с десятком крепких холопов, оставив потешников, резво двинул в Москву. Путь оставшийся пролетели на одном дыхании. Лошаденки хоть с виду и неказисты были, да выносливыми оказались. Вон, аж Никодим, толк в них знающий, довольно присвистнул.
– Э-ге-гей, родимая! – подбодрил тот тянущих сани животных. – Хороши, бестии! Купца – мечта.
Остаток расстояния пролетели, меняя лошадок на ямах, за неполных три дня, каждый из которых Николая Сергеевича терзала все та же самая дурацкая песенка: «Самара-городок». Да так, что ты хоть тресни!
Уже на подъезде к столице еще одна беда приключилась: занемог Милован, да так, что вопрос о продолжении им путешествия даже и не обсуждался. Остановившись буквально на сутки, в себя прийти чтобы, в баньке попариться да с женками свидеться, разлетелись все кто куда. Некомата к себе Булыцкий забрал, здраво рассудив, что безопасней так будет и для купца бывшего, и для окружающих.
– Садись, Никола! – повернувшись на голос, пенсионер увидал Ивашку со Стенькой Вольговичей. С довольными улыбками махали они товарищу, приглашая сесть в кузовок.
– Чего не в валенках? – бросив взгляд на обувку братьев, поинтересовался учитель.
– Добра обувка – валенки-то, – расплылся в довольной ухмылке Стенька.
– Ты теперь поди сыщи хоть одного без них-то! И нога в тепле, и не скользит по снегу-то. Вот только кузовок тягать обувка помягше нужна. Бо ноги в кровь растираешь, – подхватил Ивашка.
– А так, во всем хороши! Ты садись, Никола! Вмиг довезем! – снова перебил брата Стенька.