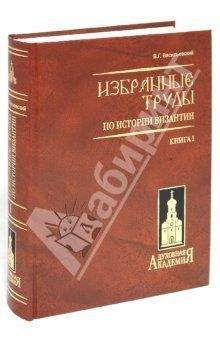Евгений Витковский - Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!
На Таганской дед вылез из метро и пересел в трамвай. Ходила к Калитниковскому и более удобная маршрутка, но только с восьми утра. А дед любил приезжать к самому началу, хоть и знал, что его место в попугай-ном ряду неприкосновенно, давно уже примирились с его существованием многочисленные торговцы волнистыми попугайчиками и более редкие, более солидные поставщики сотенных неразлучников и корелл по сто рублей пара. Вообще ценами выделялся дед над рынком, как Эверест над сопками Маньчжурии: редко-редко что вообще стоило на рынке больше ста рублей, разве только в собачьем ряду какая-то высокопоставленная дура вот уже седьмой год пыталась продать по восемьсот рублей все одних и тех же щенков афганской борзой, — хотя за семь лет щенки, мягко говоря, подросли, но цена оставалась прежней, даже за шестьсот рублей дура с ними расставаться отказывалась. Еще хорьки стоили дорого, некоторые породы голубей; однажды вышел какой-то хмырь продавать обезьяну неведомой разновидности, тысячу рублей просил, но его заулюлюкали, не пошло у нас обезьянье дело. Все, пожалуй. С дорогими попугаями, кроме деда Эди, не стоял обычно никто; только раз в год приезжал из Борисоглебска Федор Фризин, привозил одного-двух изумительных жако, уже обученных говорить десяток фраз, толкал их чуть ли не сразу по пятьсот рублей, а потом весь день стоял с Эдуардом Феликсовичем, зазывая покупателей и нахваливая гиацинтового ару как самонаилучшего попугая-долгожителя и красавца. Фризин и Корягин друг друга глубоко уважали, как уважали друг у друга и попугаев: Корягин уважал жако как несомненно лучше всех говорящего попугая, Фризин ару — как несомненно наиболее красивого и трудного в разведении. Дальше оба старика непременно вздыхали, что не удается наладить в неволе разведение черного какаду, не несется, подлец, и все тут, получил Тартаковер в Сиднее в двадцать восьмом году одну кладку, и все, с тех пор не отмечено, вздыхали еще разок-другой и расходились. А прочие продавцы с годами смекнули, что дед и его двухтысячный, орущий на неприятных типов «Иди отсюда!», им даже выгодны: придет покупатель, охнет от цены на синего красавца и уже спокойно платит сотню за пару корелл, — раньше, без деда, конечно же, эта сотня казалась большими деньгами, а теперь мелочью стала. Мелочью она стала, впрочем, еще и от времени просто. Но это уж совсем не про попугаев разговор.
Дед встал в ряд и аккуратно раскутал своего красавчика. Михася в большой клетке за толстенным стеклом, с умело встроенной вентиляцией, чувствовал себя на рабочем посту: поворачивался левым и правым боком, точил клюв о специальную железяку, вообще работал на покупателя. Дед же, высокий, с торчащей вперед бородой, зорко вглядывался в толпу, почти из одних зевак да рыбошников состоящую: не идет ли кто серьезный. За долгие годы научился Эдуард Феликсович безошибочно определять серьезность намерений клиента; даже вопрос, заданный в форме «Сколько этот ваш стоит», уже лишал деда малейшего интереса к вопрошающему, ибо серьезный человек спрашивает: «Сколько такой будет стоить», ясно же ведь, что племенной не продается. А справа и слева все бойчее становился слышен обычный треп торгового ряда, где основное развлечение болтовня с соседями, тертые, плохо рассказываемые анекдоты, сведения вражеского радио — кто что расслышал (особенно теперь, когда опять глушить стали), а также совершенно точные сведения из первых рук — на что нынче следующим делом цены поднимут. Ну, и обычное зазывание тоже.
— А ну, волнистых, волнистых, на разговоры, на племя! Тридцать пять дней, на разговоры! А ну, кто хочет на разговоры! Волнистых!..
— И что ты, спрашивает, будешь делать, если муж тебе изменит один раз? Я, говорит, отрежу на сантиметр. Ну, а если он еще раз тебе изменит? Тогда, говорит, еще на сантиметр отрежу. А если, говорит, в третий?..
— И сколько такой тянет?..
— Кореллы есть! Кому кореллов?
— Масло будет пять пятьдесят, хлеб — двадцать пять тот, что восемнадцать, пиво по рублю, а бензин крашеный…
— Я, говорит, на тебя кляп имею!..
— Можешь представить, я на тринадцати слушаю, целая передача была, говорят, есть наследник русского престола, законный царь, и будто бы не за горами, что его советская власть признает, ни хрена себе!
— Да отрубись ты со своим мотылем!..
— На племя! На разговоры!
— Да нет, я ее арматурой, и пластиком, вовнутрь такую хреновину разводами, на нее сколько ни нагадит, все кажется, окрас такой, купят, купят!..
— Ишь, говорящего ей за семь рублей, вон, к деду иди, у него говорящие по две тысячи…
— Еще студенческое масло будет, как в Новосибирске, по два шестьдесят, жарить на нем нельзя, а мажется хорошо…
— Говорили, будто и княжны великие, и наследник — всех их святые люди на западе выкупили. И до сих пор живут они все в одном чудном монастыре, и государь Николай там же с ними…
— Да ему же лет сто теперь…
— А что, вон спроси у деда, попугаи живут и ничего, а тут человек святой…
— На племя!..
— Это ж не кенарь, это ж мечта моего счастья!..
Цену у деда спрашивали редко, чаше всего с благоговением, говорившим заранее: я у вас такого купить не смогу, нет у меня таких вот денег, но все-таки, любопытства ради, осведомите, мол, сколько такой красотизм стоит. Дед отвечал охотно, рассказывал о дорогих попугаях, советовал в зоопарк пойти, — уже дважды люди после визита в зоопарк возвращались к нему за попугаем, — в зоопарке гиацинтовые ары уже много лет принципиально не приживались, правильно, кстати, делали, дед Эдя обеспечивал им куда лучшую жизнь. За тем, чтобы в зоопарке они не приживались, зорко следил старый лагерник Юрий Щенков, по сей день командовавший там броненосцами, он твердо помнил об интересах деда Эди, так же, как помнил и мерзлые больничные огрызки, которыми спас его прозектор в сорок седьмом, спас доходягу, погибавшего от пеллагры. А вот сейчас на улице был декабрь, покупателей по холодному времени толклось не особо, да и продавцов тоже. Воздух рынка действовал на деда наркотически, мысли навевал самые приятные: о гиацинтовых ара и еще о внуках.
Около двух часов объявились, кстати, двое старших: Ромео без всяких документов водил отцовскую машину уже больше года и сейчас приехал на ней за дедом. Отец нынче стряпал что-то невообразимое, ждал к шести дядю Георгия. Внуки все как один любили пожрать, и деда тоже любили, хоть и знали, что отец с дедом в контрах, но допустить, чтобы все было съедено без деда, ясное дело, не могли. Эдуарду Феликсовичу все эти армянские лакомства были до фени, он бы предпочел латышский суп из пахты и цвибельклопс (блюдо сомнительно латышское, но сами латыши в его национальное происхождение всегда свято верили). Но не отказывать же внукам. Да и дядю Георгия, толстого-претолстого, внуки тоже любили: за веселый нрав — и, опять-таки, за его привязанность к деду Эде. Дед укутал попугая, на прощанье буркнул кому-то, что производителя не продает, тем более за триста, сел на заднее сиденье и задремал до самого дома, и видел во сне северное сияние, и слышал мантрамы Елены Ивановны.
А дома внуков и деда ждали запахи. Дух виноградного листа, вымоченного в винном уксусе, ибо полковник, конечно, готовил долму; аромат распаренной баранины, ибо полковник, конечно, и кюфту тоже готовил; тихий запах попугаячьего дерьма, ибо и птички, конечно, не только дремали. И другие запахи, более слабые, но обитателям квартиры, — кому какие, конечно, — весьма дорогие. Дед с порога выпустил из клетки Михасю, тот расправил крылья и коршуном кинулся проверять: не изменила ли ему Розалинда с родным братом, синим до лиловости Пушишей. А Рыбуня рявкнул приветственное «Москва — Пекин». А полковник на кухне тихо выматерился по-русски, но дед этого не слышал. Была половина четвертого, через час Георгий выедет со своей дачи в Моженке и не успеет пробить шесть, как с эскортом въедет во двор «Дома правительства». А долма к этому времени успеет разве? Одна надежда на деда Эдуарда, будь он проклят, что хоть на полчаса шефу мозги загадит своими попугаями, может быть, и кюфта успеет!..
В назначенный срок, за четверть часа до шести, ЗИЛ Шелковникова и две «волги» с охраной вкатились во двор. Сперва из «волг» вылупились здоровенные охранники, все как один в штатском, но с той самой необманчивой выправкой, выстроились редкой цепочкой вдоль маршрута от ЗИЛа к подъезду; кто-то в лифт забежал, проверил на предмет заминирования, кто-то по лестничным клеткам прошвырнулся, поискал террористов и не нашел. А ЗИЛ тем временем разверзся, и вылез из него генерал-полковник Георгий Давыдович Шелковников, человек совершенно необычайной толщины и во многих других отношениях тоже необыкновенный. Когда-то, в начале века, обрусевшим московским армянам принадлежала в Москве знаменитая красильня. Где-то среди необычными способами уцелевших бумажек хранил генерал у себя и старую рекламку этой красильни и в нетрезвые минуты, особенно в последние годы, когда стало полезно подчеркивать, что ты не из болота родом, а хорошей старой фамилии, лучше всего дворянской с титулом, кое-кому он эту рекламку показывал, прежде всего родственникам, а также и двум своим единственным начальникам: министру-председателю, первым заместителем которого был, — Илье Заобскому, и, конечно, паралитичному премьеру. После этого донести на него было уже некому и некуда, даже если бы злейший враг — а такового, конечно, Шелковников имел, — об его непролетарском происхождении пронюхал. Рекламку Шелковников берег нежно, в ней говорилось, что «Красильня, пятновыводка и плиссировочная Ф. А. Шелковникова в Москве, с фабрикой на второй Тверской-Ямской и магазинами на Тверской-Садовой, дом театра Буфф, также на второй Тверской-Ямской, также на Домниковской улице; производит химическую чистку и окраску шелковых, шерстяных и бархатных материй, а также красит, чистит и плиссирует всевозможные дамские и мужские платья в распоротом виде, шторы, драпировки, ковры, брюссельские кружева, оренбургские платки, меха и лайковые перчатки, — а также занимается чисткой мебели на домах, и еще ажурной строчкой (мережкой)…» В былые годы, особенно до пятьдесят третьего, боялся Георгий Давидович этой бумажки как огня, считал, что не сохранилось ни единого экземпляра ее, а потом, выросши в чине уже до Бог знает каких высот, извлек последний ее экземпляр… из собственного личного дела, которое сподобился увидеть в начале шестидесятых. Все, оказывается, знали в отделе кадров с самого начала. И не трогали. Доверяли, с одной стороны. Проверяли, с другой. По исконным принципам.