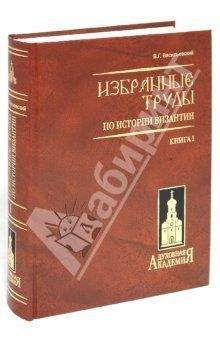Евгений Витковский - Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!
Так вожак служебных бродячих собак Володя закончил свою многодневную перебежку из Москвы через Калугу, — где его едва не изловили местные собачники, пришлось прятаться в вагоне товарного поезда, заехать пес его знает куда и добрых три дня потерять, — через Брянск и Старую Грешню, где эс-бе, конечно же, оставил свою метку на знаменитом пьедестале; через Верхнеблагодатское, — конечно же, и на бетонном заборе отметку тоже поставил, — мимо почти вымершего сельца Лыкова-Дранова — прямо к дому сношаря. Володя чувствовал, что поспел как раз вовремя. Он был уже очень стар даже по обычным собачьим меркам, особенно же по меркам собак бродячих. Родившийся в шестидесятых годах на задворках ныне уже закрытого ресторана в Сокольниках, пережил он с тех пор и отравленную конину, которую для бродячих раскидывали по помойкам, пережил отстрелы и отловы, из вивария дважды сбегал, пережил и тот довольно длинный период своей собачьей жизни, когда вожаком стаи в шестнадцать голов переходил вечерами дороги в Сокольниках, соблюдая правила уличного движения, сперва налево глядя, потом направо, все пережил он, и вот теперь был отцом своего народа, и даже, по мнению ученых кинологов, отцом своей породы, пусть пока не очень многочисленной, всего в несколько сотен собак. Служебные бродячие, все как один его дети, внуки, правнуки и т. д., стали первыми бродячими собаками, получившими право на жизнь в обществе победившего социализма, первыми суками-кобелями, перед которыми приотворилась дверь в коммунистическое будущее. К тому же — и это главное — Америка, а уж другие страны и подавно, в деле разведения бродячих отстала безнадежно. Впрочем, КГБ, дав этим собакам право на свободный труд, никак не мог добиться от министерства коммунального хозяйства, чтобы то запретило отловы ценнейшего поголовья: случалось, почтенная, отличившаяся не на одном боевом задании сука-производительница кончала свою жизнь в душегубке, а майор Арабаджев обрывал телефонный провод в тщетных попытках дозвониться до министерства и вызволить ее, министр обычно был на рыбалке, а кому важна жизнь какой-то суки, даже если она имеет звание младшего лейтенанта КГБ. И Володя, который силой своего низкого чутья видел будущее не хуже предиктора ван Леннепа, знал, что сейчас он подошел к дому такого же, как и он, отца народа, отца своей породы. Только человечьего, такого, который сумел многократным инбридингом на самого себя вывести новую породу людей, не служебную и не бродячую, правда, но жизнеспособную, мощную размножительно, замечательную, в общем. Пес знал, что он должен выследить этого человека и по долгу службы выдать его своим хозяевам. Но он очень сомневался, что по соображениям чисто производительской солидарности заставит себя это сделать. И очень хотел найти повод к тому, чтобы таковой служебный долг не исполнять, оставаясь, конечно, по возможности верным этому самому священному служебному долгу.
Володя обежал вокруг дома. Из щелей тянуло дымом плохих сигарет — пес недовольно чихнул. Тянуло кури-цей — во-первых, живой, какой-то вялой, вроде бы старой девой, похоже, единственной в здешних краях. Еще тянуло другой курицей, жареной, точней, запеченной в тесте. Еще — яичницами; тянуло душным и тяжелым запахом полежавших вареных раков, другой едой — отчего пес обронил несколько скупых капель слюны: он-то не ел уже два дня, времени не было в помойках копаться. И еще сильно, резко пахло… вязкой. Не нормальной собачьей, а человечьей. Даже несколькими вязками. Володя знал, что у людей не по-нормальному, мужчина вяжет женщину когда хочет, течки не дожидаясь, наоборот даже, в течку вязать не любит. Но тут вязкой занимались одновременно — Володя понюхал еще — сразу трое мужчин. Женщин было еще больше, девять, кажется, большая часть уже повязанные, а сношарь, хозяин дома, судя по запаху, как раз сейчас стоял в замке с очередной. Двое других мужчин, в особом помещении, тоже вязали кого-то, у одного, кажется, дело шло на лад, другой же наоборот, оказался зеленый совсем — все садки делает, садки, а в замок никак не входит, петлю не находит, что ли, не то просто она тугая оказалась…
Но так или иначе — знал старый эс-бе, что не имеет права мешать уже начавшейся вязке. Легко семеня стертыми лапами по свежему снежку, отбежал Володя к обрыву, присел, поднял голову к затянутому облаками небу и тихо-тихо, по старчески, заскулил. Нет, он не имел права нарушить свой долг. Он должен был выдать этого отца породы с его гостями. Но — не сразу. Не сегодня и не завтра. А в другой раз, когда удастся застать его не за вязкой. В другой раз… Может быть, к весне. Пока что нельзя.
Словно расслышав вой Володи, в деревне отозвались хриплым лаем местные собаки. Володя лизнул снег и побежал искать пропитание.
14
Его превосходительство
Любил домашних птиц…
ЛЕВ КАМБЕКДед Эдуард встал, как обычно по субботам — ни свет, ни заря, в четыре утра. Рыбуня, самый старый и почтенный из попугаев, тоже проснулся как обычно — вместе с хозяином, зашебуршал у себя на перекладине и объявил совершенно категорически:
— Москва — Пекин! Москва — Пекин!
Эту фразу дед слушал уже двадцать пять лет каждое утро. Рыбуня, здоровенный гиацинтовый ара, весь синий и немножко желтый, совсем еще не был стар по попугаячьим меркам, только-только ему исполнилось двадцать шесть. Когда-то его чуть не подарили делегации пекинского, не то шанхайского, зоопарка, никто уже не помнил какого, но китайского точно — делегация привезла в Москву двух неприжившихся впоследствии панд, — но при первом же знакомстве лихой Рыбуня бодро откусил неосторожному китайцу палец, за что был бит нещадно, кажется, даже с применением приемов ужасной борьбы кун-фу, о которой тогда у нас еще и слыхом не слыхивали, и собирался совсем подохнуть, но случился рядом дед Эдуард, тогда не дед еще, а просто приехал в Москву к другу, с которым девять лет на Воркуте отдыхал, а друг как раз в зоопарке восстановлен в правах был, над броненосцами южноамериканскими в начальники вышел. Пожалел будущий дед полудохлую птиченьку, тут же получил ее в сактированном виде, короче говоря, стал полноправным обладателем единственного в стране гиацинтового ара-самца, приволок его на квартиру старшей дочери, что уже тогда была замужем за молодым генералом, правда, генерал тогда гостил в Албании, — а потом и выходил птичку-то, и с собой в Ригу увез. С этого случая начался в жизни Эдуарда Феликсовича третий период, самый спокойный и счастливый, когда смог он наконец-то бросить медицину, уйти на пенсию, разводить птичек, сидя под крылом у двух зятьев, растить внуков и так далее. Периоду этому предшествовали два других: первый был ничего, в двадцатые и тридцатые годы жил дед в буржуазной Латвии, входил в правление общества имени Рериха, лечил травами, научившись этому ремеслу у своего отца, очень знаменитого гомеопата, умершего в конце двадцатых, — давал деньги на издание «Тайной доктрины» Блаватской, которую светлой памяти Елена Ивановна перевела на русский язык перед самой войной, двух дочерей завел, потом войну там же, в Риге, пересидел как-то, а в сорок пятом вызвали его в одно место и спросили: вы ли, мол, тот самый Владимир Горобец, что общество памяти Ульманиса возглавлял; Эдуард ответил, что, мол, не я, и вообще такого не знаю. Эдуарду кивнули понимающе и дали десять лет. Сразу после этого начался в его жизни другой период, поначалу тяжелый, а потом тоже не особенно плохой, ибо в лагере на Воркуте попал дед не в шахту, а в больничные врачи, хотя диплом у него был ненастоящий, несоветский (Эдуард Корягин учился в Париже), сразу в старшие патологоанатомы лагеря. Вскрывал. Вынимал «гусака» (все внутренности разом). Свидетельствовал. Не боялся никого: по должности ножи-скальпели имел такие, что всю лагерную администрацию мог бы раз и навсегда освидетельствовать. Да и гравиданотерапия, будь она неладна, очень помогала существовать; рассказал Эдуарду Феликсовичу про эту науку один врач на Вятской пересылке: все лагерное начальство, как один человек, желало лечиться от импотенции, ну, а моча беременных баб всегда была в избытке, благо кое-кто из зеков импотенцией все же не страдал. Кипятил дед эту самую мочу, становилась она «гравиданом», потом впрыскивал ее куда надо, а взамен мясо получал, сало, сахар, шоколад даже. Тревожился, впрочем, все годы: как-то там его дочки. Старшей, Елене, было девятнадцать, когда он сел, младшей, Наталье, одиннадцать. И — никого у них на белом свете, ни в Риге, нигде. Только и надежд было, что на пробивной характер Елены. Надежды эти, надо сказать, оправдались, да еще как.
Знать не знал в те годы Эдуард Феликсович, что весь остаток своих долгих дней по выходе из лагеря он посвятит такому неожиданному занятию, как разведение дорогостоящих синих попугаев. Еще менее ожидал гомеопат-прозектор, что та самая старшая дочка, на которую он столько надежд возлагал, оправдает их самым неожиданным образом: не успел Корягин выйти на волю с бумажками о реабилитации в кармане, как выскочила она замуж ни много ни мало за молодого генерала госбезопасности, человека неожиданно положительного, из старой московской семьи обрусевших армян, Георгия Шелковникова. Так в жизни Эдуарда Феликсовича почти одновременно появились действующие лица, в корне эту самую жизнь переменившие: зять Георгий и попугай Рыбуня. Через год друг-броненосник из зоопарка при довольно темных обстоятельствах сактировал деду гиацинтовую самку Беатриссу, от какового союза в Риге дед совершенно неожиданно получил кладку — иначе говоря, три больших белых яйца, из которых при стечении обстоятельств должны были бы вылупиться несусветно дорогие гиацинтовые птенчики. Но дочка выписала отца в Москву, поселила его пока у себя на даче, в Моженке, и яйца при переезде побились. Эдуард Феликсович не уныл и через полгода получил другую кладку. И стало попугайное дело не только любимым, но и прибыльным. А в шестьдесят первом, в долгие три зимних месяца, когда по всей стране люди меняли старые деньги-простыни на новенькие — маленькие, не замечая, что пучок лука как стоил десять копеек старыми, так и стоит десять копеек новыми, состоялся медовый месяц и у младшей дочери, Натальи, отчего-то тоже с офицером ГБ. Весть о том, что второй зять тоже армянин, Эдуарда Феликсовича так потрясла, что все остальное, зятьев объединявшее, — а именно ГБ, — от его сознания уже ускользнуло. Дед и вообще перестал обращать внимание на что бы то ни было, кроме Рыбуни и его семейства. Вскорости переехали в Москву и Наталья с мужем, под крыло к старшему зятю, а дед с неуютной дачи перебрался к ним же. Скоро и внук первый народился, Рома, — не Роман, правда, а Ромео, но это уж у армян национальная страсть к Шекспиру. Появился еще один смысл у дедовой жизни. Старых рижских, «рериховских» связей дед специально не поддерживал, но кое-какие из них восстановились сами по себе. Зять Георгий, толстевший с каждым годом, отчего-то эти связи очень одобрял, интересовался всякими криптограммами Востока, Жоффруа де Сент-Илером, Успенским, агни-йогой, Махатмами, даже повесил на стену у себя картину художника Сардана, иначе говоря, проявлял внимание ко всему тому, что в прежние времена, когда общение Корягина с госбезопасностью еще не стало семейным, а ограничивалось разве что гравиданотерапией, было ему близко и дорого. Но жизнь деда Эди была теперь полна попугаями и внуками, нрава он и без того был всю жизнь смешанного угрюмого и жизнерадостного, причем первая часть проявлялась внешне, а вторая внутренне. И познакомил дед старшего зятя кое с кем. Никому от этого знакомства плохо не стало, даже квартиру кому надо и где надо выхлопотать удалось. Ну, и ладно, а попугайчики подросли, и жить в доме с пятью гиацинтовыми стало немыслимо, да еще Наталья опять с пузом ходила, собирался родиться внук Тима, не Тимофей, правда, а Тимон; вздохнул дед и повез самого маленького попугайчика на птичий рынок. Думал, полсотни уж наверняка выручит. Но решил постоять и подождать — сколько предложат. Простоял на Калитниковском до часу дня без малейшего толку, только дивилась публика на синего попугая, да шипели конкуренты, толкавшие зеленых волнистых, и так-то спросу чуть, а тут еще бородатый какой-то с синим, не иначе крашеным. А около часу дня подошел дядя в дубленке, тогда еще не модной, и с сильным акцентом сказал, что больше тысячи сейчас при себе не имеет, но, если дед согласится с ним поехать, он заплатит полную стоимость. Что есть полная стоимость — дед и помыслить не мог, ежели тысячи мало. Но не растерялся и на хорошем французском языке выразил согласие поехать. Пораженный посол Люксембурга, для которого французский язык на птичьем рынке был таким же потрясением, как предложенная цена для деда Эдуарда, купил попугая в итоге за полторы тысячи, и в последующие годы каждое лето по птичке покупал, пока его в семьдесят пятом самого ливийские террористы не похитили. И грузины тоже покупали. Армянам приходилось дарить. Но денег вдруг стало навалом. Так вот и получил дед Эдуард от советской власти сперва свободу, а теперь, через посредство зоопарка и птичьего рынка, еще и независимость.