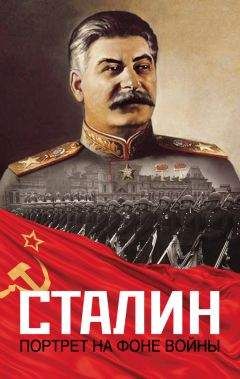К Соловьев - Господа Магильеры
Альберт выпрыгивает из вагона сразу же, как только поезд полностью останавливается. Но он все равно оказывается стиснут со всех сторон людьми. Кто-то из попутчиков на прощанье успевает всучить ему сверток с бутылкой вина и парой помятых яблок. С этим свертком Альберт чувствует себя неудобно, оказавшись в людской трясине, состоящей из серого месива солдатского сукна, табачного дыма и незнакомых грязных лиц. Сверток тяжел, выскакивает из-под мышки, оттого приходится придерживать его локтем.
Альберт куда-то бредет, не видя цели. В этой сдержанно ворчащей толпе невозможно выбрать направления, все идут в одну сторону. Эта новая жизнь, выплеснутая в предрассветный город, пока еще слишком неопытна и смущена, но она быстро становится энергичной и целеустремленной. Как молодой организм в новой, но питательной среде. Альберт бредет, ощущая себя ее частью, малой клеточкой этого странного и отвратительного по своей сути организма. Он думает о том, как бы удержать сверток, а заодно и вещмешок. И еще о том, что правую ногу надо бы ставить аккуратнее, а то подметка не дойдет до дому. Сапоги еще хорошие, английские, добытые парой месяцев ранее, их бы подлатать, и еще на год хватит…
Какой-то пехотный лейтенант, идущий за его правым плечом, заливисто смеется и рассказывает спутникам, что в первую очередь направится в кабачок возле дома и пропьет там все, включая портянки. Его подначивают, но благодушно, даже с завистью. «Поверить невозможно, что все кончилось, - говорит кто-то еще, но, кажется, из другой компании, - Война кончилась, ну бывает же… Это как если бы мне сказали, что море закончилось или там…».
Тут же разгорается спор. Люди говорят хриплыми, негромкими, но удивительно звучными голосами. «Траншейный шепот» отлипает от человека еще дольше, чем умение связно выдавать цепочки заковыристых ругательств. Или вши. Кто-то клянет кайзера, люто, в его почти бессвязных словах слышится шрапнельный свист. Какой-то солдатский депутат уже рассказывает товарищам последние политические новости, но Альберт его не слушает. Ему это не интересно.
Правее него шагает, глядя под ноги, коренастый сапер. Один рукав его куртки пустой и болтается, нелепо покачиваясь, как какой-то причудливый отросток, случайно созданный эволюцией и никчемный. Лицо у сапера темное, потрескавшееся, кажется невозможным, что на нем способны двигаться какие-то мимические мышцы. Но губы сапера беззвучно шевелятся.
Какой-то парень со смешливыми глазами легко касается плеча Альберта, вынуждая его поднять взгляд.
- Ты, никак, фойрмейстер, отец?
Глазастый. Альберт вспоминает, что еще в поезде собирался перочинным ножом срезать с рукава шеврон. Но замотался, не успел, а потом рухнул в тяжелый и липкий, как на передовой, сон. Не успел. А может, пожалел красивое сукно. Три переплетающихся языка пламени похожи на какую-то хитрую руну древнего алфавита. Когда-то багряные, они впитали в себя гарь, копоть и грязь, стали серыми, едва различимыми. Только внимательный взгляд и выхватит.
- Да, - говорит Альберт. Когда-то ему польстило бы, что парень, парой лет его младше, почтительно называет Альберта «отцом», как ветерана. Сейчас ему кажется это глупым.
- Жег, значит, врагов кайзера огнем? – спрашивает тот, что со смешливыми глазами. Не понять, всерьез, или шутит так.
- Жег, - кивает Альберт, - Бывало.
- Французов жег?
- Да.
- А "томми"?
- Тоже жег.
- Силен! А закурить не дашь, фойрмейстер?
Парень уже тянет самокрутку, свернутую из газеты, с мятой стружкой эрзац-табака внутри. Альберт рефлекторно протягивает руку и выпрямляет указательный палец. Все давно отработано до автоматизма, происходит само собой, как в хорошо смазанном пулемете. Мгновенная концентрация, краткое усилие, и на кончике его пальца уже пляшет крохотный желтоватый огонек. Парень восхищенно охает и успевает прикурить, прежде чем Альберт поспешно прячет руку под полу. Окружающие, кажется, не заметили. Иначе забросали бы вопросами.
Вокруг Альберта уже новые лица, тоже незнакомые и чужие. Сонные, пустые, отрешенные. Как будто художник сделал подложку для группового портрета, загрунтовал холст, очертил контуры будущих лиц, но так и бросил, не обозначив на них толком черт, оставил бесцветными пятнами. Иногда художнику приходится прервать свою работу. Альберт вспоминает маленького Тило, выпускника художественного училища. В своем блокноте тот углем и карандашами рисовал удивительно забавные шаржи – толстых ефрейторов, оберстов с бульдожьми мордами, французских гренадер с тонкими лягушачьими лапками. Но Тило сейчас висит на колючей проволоке во Фландрии.
Чтобы отвлечься, Альберт смотрит по сторонам. Он уже в городе, хоть и сдавлен со всех сторон костлявыми солдатскими плечами. Город не узнает Альберта. Он равнодушно смотрит на него, как на какую-нибудь козявку провалами своих окон. Город сильно изменился за те полгода, что Альберт здесь не был. Многие дома целы, но хватает и развалин, особенно возле вокзала. Груды серого камня, пласты обломанных перекрытий, рассыпанный по мостовой кирпич. Альберт уже не смотрит на них.
В проплешинах, возникающих в сером солдатском сукне, как в разрывах меж плотных туч, он видит средоточие кажущихся удивительно яркими красок. Гражданская одежда. Там стоят люди, которые кого-то ждут, кого-то встречают. Их мало, но они стойко выдерживают давку, и лица у них сосредоточенные, как будто они стоят под шквальным пулеметным огнем. Альберт устремляется туда, ожесточенно работая локтями. Он знает, кого хочет там увидеть. Он знает, чей взгляд сейчас блуждает по одинаковым солдатским затылкам, пытаясь найти знакомые вихры.
- Ида! – кричит Альберт. Дыхание в давке теряется даже быстрее, чем в драке, - Ида! Ида! Ида!
- …берт!.. – восклицает кто-то совсем рядом, - Альберт!
Он хватает трепещущий сверток еще прежде, чем успевает рассмотреть лицо. Хватает и прижимает к груди. Под ребрами ноет потревоженный след от осколка, но сейчас Альберт этого не чувствует. Он прижимает к себе податливое и дрожащее женское тело и зарывается лицом в волосы. Запах женских волос, удивительный, неповторимый и свежий. Он чувствует себя так, словно уткнулся в свежескошенный луг, душистый и пряный, еще не изрытый траншеями, не успевший пропитаться разложением и смрадом гниющих лошадиных туш.
Ида бьется в его объятиях, то ли рыдая, то ли сотрясаясь в судорогах. Так иногда бывает у контуженных на фронте. Они совершенно теряют способность контролировать свое тело. Но Альберт, не обращая внимания на сердитые тычки тех, кому он загораживает дорогу, сжимает Иду изо всех сил. Она целует его. В щеку, в глаз, в шею, опять в щеку. Целует и дрожит, как будто весь ужас войны только сейчас навалился на нее. Так тощая уличная собака гложет кость, дрожа от волнения и ужаса, опасаясь, что в последнее мгновенье кто-то заберет у нее добычу. Неприятное сравнение. Альберт мгновенно забывает его.
- Ида… - шепчет он, - Успокойся, Ида ты моя, звереныш ты… Ну успокойся. Я вернулся.
- Ты возвращаешься, а потом снова уходишь! – шепчет она яростно и жарко, - К своему проклятому фронту, к своему проклятому кайзеру… А я каждый раз… О, Альберт!
- Я больше не солдат, - улыбается он, - Война закончилась, помнишь? Кайзер свергнут. Все кончилось. Скину это тряпье, натяну пиджак и пойду на работу. Найду настоящую работу, как полагается. К черту лычки, - он порывается сорвать шеврон с тремя языками пламени, но, конечно, без перочинного ножа тут не обойтись, шов крепкий, - Слышишь? Ида моя, Ида…
- Пошли домой, - бормочет она, пытаясь вытащить его из толпы серого сукна, - Тебе надо вымыться. У тебя же, наверно, вши? Я выгладила белье. Купила носки. Шерстяные, почти не штопанные. И суп. Настоящий картофельный суп. Альберт…
Все еще сжимая ее в объятьях, он поднимает за ее спиной руки, чтобы смахнуть непрошенную слезу, щекочущую щеку. И замирает, увидев свою ладонь. Пять пальцев, загрубевшая кожа, мозоли. На коже – тонкий серый налет. Как размазанный табачный пепел. Как копоть от лампы.
Ерунда, думает он, чувствуя предательскую слабость в коленях, ерунда. В поезде испачкался, вот и все. Там столько грязи, не сложно схватиться за что-то закопченное. Грязь. Не пепел, не тлен. Просто грязь. Надо будет сразу вымыть с мылом руки, да и не пустит его Ида за стол с грязными руками… Предательски колотится сердце.
Прах и пепел на ладонях. Тонкий серый налет.
Едва ощутимо пахнет паленым…
- Альберт! – она с ужасом заглядывает в его лицо.
- Что такое?
Наверно, лицо у него ужасное. Стянутое судорогой, искаженное гнетом неожиданных воспоминаний. Тело скрипит, мгновенно заржавевшее. Он пытается улыбнуться.
- Все в порядке. Старая контузия. Пустое. Пошли домой скорее.
И они идут домой. Так и не выпустив друг друга из объятий.
…где-то позади хрипит Ульрих. Английский штык, скользнув по ремню, разорвал ему горло. И теперь Ульрих медленно умирает, заливая пол траншеи дымящейся кровью. Но Альберт этого не видит. Он видит ночь, вспоротую тысячью угловатых огненных сполохов. Он слышит лязгающий, захлебывающийся от ненависти, механический лай пулеметов и одуряющий, выбивающий из головы сознание, грохот разрывов. Он чувствует запах сгоревшего пороха, гнилой ткани, горелой плоти и земли. Он чувствует, как земля под ногами подпрыгивает, а траншея раскачивается, точно бревно, подвешенное на пару веревок. С каждым разрывом в глаза сыпется древесная труха и земляная крошка. Где-то высоко в небе повисает осветительная ракета, окрашивая траншеи и людей в них ядовито-зеленым цветом. Особенное фронтовое солнце, в злом свете которого цвета искажены и причудливы.