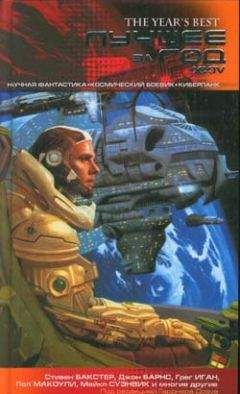Александр Ледащёв - Самурай Ярослава Мудрого
Глотка моя дрожит. Я хочу сказать, что я не уйду от ее руки до утра. До утра. До ночи. До смерти. Судорога комкает губы, и я говорю:
– Ты не человек. Ты нежить. Незнать.
И, крепко сжав ее запястье, снимаю руку со лба. Молчание ночи. Миг. Играет падающими угольками лучины светца тень блазня.
Отпускаю руку. Так надо. Мне. Точнее – так надо мне сейчас.
– Ты Ферзь, нашедший свой Дом, свой путь. А теперь ты попал в туман.
– Я тону в тумане. А еще я понимаю, что ты права. И это скверно. Потому что туман – это Пограничье, и рассеялся он только тогда, когда я вошел в дом в Ростове. Я не могу век свой провести на границе. На границах. Не могу и не хочу. А теперь ты снова кидаешь меня в туман, как щепку в половодье. Но это твой туман. Ты властна его и поднять, и убрать. А я волен пройти его и выйти на свою путину. Последнюю. Потому…
– Потому что Ферзь больше не хочет покидать свой дом.
– А ты?
– Я?
– А ты? Ты вольна дать мне дом? Мой новый дом, откуда уже никто и никогда… – Что я говорю? Чем я горю? Просить защищенного дома у нежити. Положим, это не в первый раз я искал свой дом не у людей, х-ха, но эта ночь, смотрящая из-под длинных злых ресниц, разве в ее тьме есть дома для заблудших наставников?
Блазень обжегся – тень судорожно роняет уголек на пол. На деревянные доски – мимо лохани с водой. Голова хозяйки поворачивается в сторону оплошавшего блазня, и на пол, вместо уголька, падает льдинка, подскакивает, сверкает тысячами граней и падает на доски. Тает и растекается лужицей. Это так. Просто так. Это вообще ничего не значит. Просто она умеет так.
– Ты просто умеешь так. Так же просто, как ночь поселилась под твоими ресницами. Так же просто, как ворожат мертвые золотые змеи на твоем плече. Ты просто не умеешь иначе. И не должна – по-другому.
Ладони хозяйки припали плотно к щекам, поползли вверх, пальцы утонули в черных потоках волос, падающих теперь почти до пола. А лицо ее смотрит в потолок. В прорезанную дыру. И тут я понимаю, что она сейчас…
И она негромко воет. Это не плач. Это не стон. Это не злая тоска волка по зиме. Это – настоящее. Это больно. Ей тоже бывает больно?
Ее кулак камнем падает на столешницу – костяшками на край.
Она душит этот вой, небрежно душит, лишь судорога пробежала по ее рукам и плечам.
– Не надо. Что худого в том, что тебе больно от себя? – Это спросил я.
– На полдня пути от моей избы для всех – смерть! – резко сказала она.
– Кто ты? – Я должен это спросить. Я хочу это знать. Еще я хочу, чтобы что-то решилось, наконец, в этой избе. Между хозяйкой городьбы с дюжиной черепов и мной – беглецом. Но хочу я лишь одного – слышать ее голос. Опоила? Обаянница? Ланон Ши?
– Я стражница. Я стражница Пограничья. Это был мой туман. Ты, во второй уже раз, подошел слишком близко к грани – и я должна была тебя убить.
Я слушаю ее, и от низкого рокота ее голоса, от реки и перекатов, от горлового клекота на камнях…
– Ибо каждому свой черед. Каждому – свой переход. Тебе прямой, а кому-то прямее. Прямо к бабке. Прямо к Морене. Я стражница. Мое имя – Ягая. Я убиваю. Чужим пройти не даю. Не прошу и не дарю. А ты попал в верное место, когда шел сюда в первый раз – прямо на переход. А теперь ты снова пришел ко мне – на полдня пути. Но я не могу убить тебя. Ты не идешь на переход, а ты плутаешь по туману. Это не запрещено. Это можно. Это мой туман. Я три дня прятала тебя от Синелесья. От Кромки, к переходу через которую ты снова подошел. От себя.
Мне больше нечего сказать. Кривая улыбка комкает ее губы – я вижу это, хотя она по-прежнему сидит ко мне левым боком.
– От себя ли прятать, – она встает и идет. К стене, где стоит коса? К печи? К влазне. Дверь тяжко вздыхает, выпуская хозяйку в ночь. Я остаюсь сидеть за столом. Я, кажется, понимаю, что сейчас может решиться моя судьба. Что именно в этот миг за черными, грозовыми облаками ее глаз может прозвучать короткое: «Смерть ему». Вот так. Негромко и просто.
Я дам ей еще один миг – если она не вернется ровно через миг – я выскочу следом. Прямо в ночное Синелесье.
Она вернулась, пахнуло от дверей холодом полуночных волн мха, хвоей, свежей ночью…
Шея сейчас хрустнет от напряжения. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Первый, любой, самый глупый вопрос – лишь бы ответ. Лишь бы низкий, хрипловатый голос. Лишь бы глаза в глаза.
Я молчу и смотрю на стол перед собой. Пальцы тихо приплясывают на скобленых его досках. Вторая рука висит вдоль тела.
Темная река голоса. Немые, кипящие смолой глаза – без зрачка. Черные, неведомые, убийственные омуты слов, в которых может утонуть сердце.
Пусть.
– Да. Вот потому. Вот потому – от себя, стражницы, не спрятать. И потому, что только ты можешь хотеть чего-то так, как не хотят ни люди, ни нежити.
Пусть. На самом дне – в скальном, бездонном во тьме своей разломе, до краев наполненном черною водой жизни, оно наверняка встретится с ее сердцем.
Так в лютой, обломавшей мечи сече хватают на руки врага – чтобы с маху хребтом о выставленное колено. Чтобы сразу насмерть. Так ты подхватил на руки ее – стражницу. Ягую. Она обжигает голые руки жаром своей снеговой кожи – леденящим жаром, жаром до озноба, в дрожь, а руки ее, тут же гадюками обвившиеся вокруг твоей шеи, кажется, равны по силе твоим – так жадно и властно потянула она твою голову к себе. К оскаленным, белым зубам. К жестко очерченным губам – словно накусанным со зла. К мрачным, кипящим варом колодезям глаз под длинными, жестокими ресницами. Чернота полыхнула на миг и исчезла.
Где-то неизмеримо далеко, наплевав на все, шел к концу 2011 год – люди умирали, старились, любили, жили и рождались.
Глава XXIX
Утро, как известно, мудренее вечера. Да, должно быть. Но утро не настало – я проснулся вечером, когда солнце уже садилось. В горнице я был один. Ягая исчезла – я не помнил, когда она ушла. Ее коса и лук исчезли вместе с ней.
Задавать себе обязательного вопроса – не привиделось ли мне все это, я не стал. Горела исцарапанная спина и грудь, и болели накусанные стражницей губы. Бешенство. Страстью это назвать, пожалуй, не получится. От страсти наутро хочется уйти как можно скорее. А я никуда не хочу от нее уходить. Она же ушла. Ничего. Так надо. Иногда кроме «я хочу» есть и «так надо». Да и зачем вообще это как-то называть? По привычке…
На дворе темнело. Я встал с полка, натянул просохшую рубаху и сапоги и, пригнувшись, нырнул во влазню. Первый, кого я увидел, был Харлей, вольно стоявший у городьбы и стригущий сладкую вечернюю траву. Подзывать жеребца или подходить ни к чему. Он расседлан и разнуздан, накормлен и напоен, судя по колоде для воды, стоящей у городьбы.
Дверь влазни выходит на закат. Как раз за елями уже почти окончило умащиваться на ночь огромное красное солнце. Оно потягивалось перед сном длинными красными столбами на синеющем небе. Стаи птиц встревоженно метались над лесом – хлопотали в поисках ночлега. А под елями вокруг избы уже просыпалась ночь – черная, сажная ночь. Здесь, в сени огромных лап, она не боится ни луны, ни солнца…
…Я не сразу заметил его. Он, полупрозрачный, сутулый, стоял возле меня, таращил темные провалы глаз, силясь заглянуть в окно избы. Я замер. Это блазень. Но не тот, не домашний. Его тело подергивала дрожь, он пританцовывал на месте, не шевелясь, – а я думал отчего-то о том, что хорошо, что тут нет ветра… Меня он тоже видел, но то ли не считал за человека достойного беседы, то ли был нелюдим от природы, а может, принес вести или пришел за приказаниями и ему было не до болтовни.
…А во дворе их несколько уже. Блазни? Мнилко? Вряд ли мнилко – они не отходят от своих мест – и вчера их тут не было. Уводна? Да, пожалуй, – вот, пробуя силу, одна пропела что-то высоким, чистым голосом, призывным, как трубный клич осеннего клина журавлей. Несколько раз они меняют свет, мерцают синим бархатом на фоне темно-фиолетовых елей – почти неразличимо, потом резко кидаются из стороны в сторону – играют. Я прошел, проехал, пробежал, проскакал, проплыл сотни и сотни верст, для того чтобы мне повезло – и я увидел, как танцуют на закате уводны – во дворе по-звериному жестокой, манящей, как тьма за окном, Ягой. Как одна гладит по шерсти Дворового – а тот, сидя на спине моего коня, довольно крутит ласочьей головой, в сотый раз, по-моему, перебирая волосы в гриве Харлея. Двойной прок ему, двойная радость – скотины Ягая не держит, ему и заняться не с кем. А еще и голову чешут. Я ловлю себя на том, что улыбка моя непривычна лицу – не на одну сторону. Тут же ловлю ее и ставлю на место.
А уводны то сходятся, то расходятся, то плывут туманом над самой травой, то кидают вдоль двора искрящиеся шары – издали их можно принять за блудячий огонек. Но только издали. Вблизи их не перепутать. Блудячие сами по себе, никакой уводне ими не играть. Вечер скрадывает их выверты – уводны рябят, возникают в самых неожиданных местах, аукают на разные голоса, смертно стонут, пропадают… Но, как и блазень, как и Дворовый, они ждут хозяйку. Я тоже.