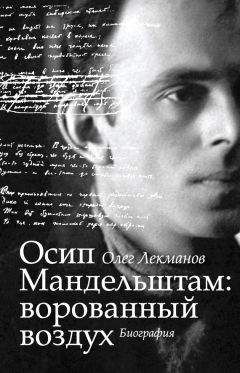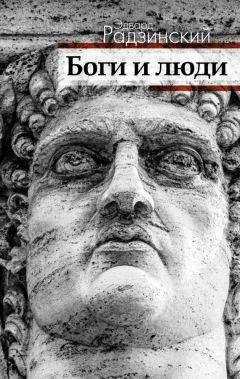Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Он эту жизнь не выбирал; выбрали за него. Кто, почему, за что – Агафонкин перестал задумываться давно: жил меж временами, как люди живут между разными городами, находясь в частых командировках. Он доставлял и забирал предметы согласно Назначениям В, иногда, если становилось интересно или встречалась понравившаяся женщина, подолгу задерживаясь в разных пространствах-временах. Агафонкин не особенно заботился о последствиях своих действий, оттого что знал (Митек объяснил в детстве): измененное им Событие не меняет Линию Событий, а всего лишь становится никуда не ведущим, не имеющим продолжения вариантом случившегося. Висит рядом с основной, единственной Линией Событий – пустой временной пузырь. Все, что случилось, уже случилось и продолжает случаться. Если Агафонкин завел в подвернувшемся Событии роман или поучаствовал в чужой войне, это ничего не поменяет, поскольку на Линии Событий этого не было. Как не было на ней и самого Агафонкина.
Главное – не нарушать Правило Курьера: не раскрывать людям их судьбу. Их завтрашнее сегодня. Пусть думают, что у них есть завтра.
Сейчас, однако, слушая рассказ Мансура в пустой холодной юрте, за войлочной стенкой которой пьяный степной ветер буянил, пытаясь заполнить собою мир, Агафонкин первый раз в жизни в этом засомневался. Выходило, что завтра все-таки может наступить.
Наступает.
Наступит.
– Мне было три года, когда мама подарила юлу. – Мансур выбил потухшую трубку в огонь под узкой железной бочкой-плитой посреди юрты. Поставил на плиту котелок с водой – для чая. – Я родился в день смерти Сталина – 5 марта 53-го года. Старый я, – засмеялся Мансур, – седьмой десяток пошел. Полжизни прождал из-за этой юлы. Полжизни пропустил.
Агафонкин молчал: его дело слушать. Вода в котелке медленно набирала силу от огня, наполняясь легким, чуть слышным гулом. А может, это ветер выл снаружи, просился внутрь, хотел обогреться.
– Отец говорил, что родиться в день смерти великого человека – знак судьбы. Незавершенное в жизни этого человека переходит к тебе, становится твоим делом. Он все время это повторял, боялся, я не запомню. Забуду свое предназначение. Мог бы и не бояться: я и так знал, что мне предстоит сделать. – Мансур взглянул на Агафонкина. – Понимаешь почему, Алеша? Почему знал?
– Нет, – признался Агафонкин. У него мерзли ноги – по полу сильно тянуло холодом. – Не понимаю.
– Юла рассказала. – Мансур вынул из-под кошмы кожаный мешок, распустил стянутое шнуром горлышко и бросил в закипевшую воду кусочки высушенного бараньего курдючного жира. – Извини, кунак, молока нет: у меня жеребец, не доится. Невкусный чай будет.
– Потерплю, – согласился Агафонкин. – Расскажи про юлу, Мансур. Я видел ее у тебя в интервенции, думал, ты взял у меня. А ты, оказывается, с ней вырос. Как так? И при чем тут Карета?
Мансур достал из широкого рукава войлочного халата другой кожаный мешочек, поменьше, и щедро отсыпал черной листовой заварки в мелкокипящую воду с белесыми пятнами жира. Он помешал чай черенком пустой трубки и присел рядом с огнем на корточки, будто хотел послушать потрескивание сухой колючки, которой топилась печь. Он не смотрел на Агафонкина, словно был один и говорил для себя.
– Ничего не случалось до шести лет, – тихо сказал Мансур (Агафонкин до конца не был уверен, что тот это сказал). – До шести лет я играл с юлой, как с юлой: крутил, вертел… Смотрел, как вращается, и боялся, что ее отнимут большие ребята во дворе. Потому играл только дома.
Мы с родителями жили в полуподвале – одна комната, небольшой круглый стол, два стула. У дальней стенки высокий старый трехстворчатый шкаф, который нам отдали жильцы с пятого этажа: купили новый, а этот собрались выбрасывать. Позвали отца вынести шкаф из квартиры, он его разобрал, по частям перенес в подвал и снова собрал. Шкаф стоял не вплотную к стене, между некрашеной фанерной спинкой и стеной оставалось метра полтора. В этих полутора метрах я и жил. Вырос за шкафом. Жил там до института. Спал на раскладушке – одеяло поверх брезента, сверху еще одно. Играл с юлой.
Он замолчал, задумался. Агафонкин не хотел его торопить и тоже молчал. Ждал.
Мансур достал из-под кошмы что-то завернутое в промасленную тряпку. “Юла”, – дрогнуло внутри у Агафонкина. Мансур развернул тряпку и вынул две маленькие, с опоясывающими их лентами цветного орнамента, пиалы. Спрятал кисти рук в широкие толстые рукава халата, чтобы не обжечься, и, приподняв небольшой котелок с чаем, аккуратно, не расплескивая, разлил густую мутную сытную жидкость в пиалы.
– Угощайся, эне, – предложил Мансур. – Ты ведь мой младший брат – эне. Или лучше племянник – бертуганнынг улы. Смотря что тебе больше нравится.
– Улы хочет юлы, – попробовал пошутить Агафонкин и понял – не получилось: даже ветер за пологом юрты не стал смеяться. Только завыл, заплакал, заныл о чем-то тоньше, надрывнее и понесся по пустой степи вдаль, туда, где, должно быть, люди шутили смешнее.
– Юла. – Мансур осторожно хлебнул горячий чай, поморщился – обжег язык. – Юла.
Я был счастлив в подвале и никуда не хотел. В узкое окошко чуть выше мостовой проникало мало света, и мне нравилась всегдашняя полутьма нашей комнаты – словно время ложиться спать, а я не сплю. У меня было три игрушки: деревянный пистолет – вырезал отец, маленький мячик – с ним не разрешалось играть внутри, и юла. Мячик и пистолет я брал во двор. С юлой играл дома.
Я хорошо запомнил тот день: был четверг. Я сидел один в комнате и смотрел, как тени проходят вдоль окна. Тени прохожих шли в другую жизнь, забегая к нам в подвал, удлиняясь, растягиваясь, проскальзывая по потолку, исчезая за переплетом окошка. Словно там, на улице, был другой мир – Мир теней, который прятался, когда я выходил во двор, скрывался от меня за обликом вещей, но на самом деле был сутью этого мира. А то, что мы видели, наоборот, было тенями.
Он взглянул на Агафонкина – понимает ли тот. Агафонкин кивнул – что тут не понять.
– Я решил попасть в Мир теней. – Мансур отпил чай, подержал горячую жидкость во рту, проглотил. – Я пошел за шкаф, взял юлу и закрутил. Смотрел, как она вертится, наматывая на себя мои мысли. Что я думал? Я думал: “Юла, возьми меня в Мир теней”.
Он замолчал, вспоминая тот четверг. Агафонкин тоже молчал. Ему не нравился вкус чая, и он подносил пиалу ко рту, делая вид, что пьет. Пиала грела замерзшие руки, дым от огня уходил столбом вверх – хорошая тяга.
По юрте поползли тени, словно пришли послушать рассказ Мансура о самих себе.
– Юла, возьми меня в Мир теней, – тихо повторил Мансур. Посмотрел на Агафонкина.
– Взяла? – спросил Агафонкин: он понимал, что должен что-то сказать.
– Взяла, эне, взяла, – улыбнулся Мансур. – Я поехал туда в Карете.
ТЕТРАДЬ ОЛОНИЦЫНАЧикой дзам хан байна? Чикой дзам хан байна?
Где дорога на Чикой?
Потерялась в степи. С той дорогой потерялся и я.
Бой с меркитами начался затемно, когда ночной ветер стих и солнце – зимняя любовница ветра – чуть подсветило небо с востока. Нукеры Джелме седлали коней в предрассветье – тени людей. Я украдкой – когда в юрте никого не было – достал из покрытого красным лаком китайского сундука свои часы, которые Агафонкин велел мне спрятать вместе с прежней одеждой, – начало первого ночи. Электронный циферблат, время московское, разница пять часов; значит, здесь-сейчас начало шестого. Тоорил-хан – мой покровитель, вождь кереитов, обещал, что до меркитской стоянки на слиянии рек Чикоя и Хилок, где держат мою жену, не больше часа галопом. Будем на месте к шести.
Хорошо: в степи к тому времени рассветет, станет видно, куда стрелять. Лучнику нужен свет.
Меркиты – нынешние буряты. Думал ли я, что буду воевать с бурятами? Братьями по России? Живут себе в Улан-Удэ, никого не трогают. Ах, Агафонкин, Агафонкин. Ну, да что теперь. Теперь поздно.
Мне принесли хатангу-дегель – кожаный панцирь с приклепанными с изнанки металлическими пластинами. Я надел его поверх длинной шерстяной рубахи, но пластины все равно терли. Хатангу-дегель был мне короток: оно и понятно – это его панцирь, а я чуть выше. Не намного, но выше. Результат хорошего питания в медицинском учреждении, где я провел детство.
В лепрозории хорошо кормили. Там вообще было неплохо.
Аhаабыт Заимката стояла в двенадцати километрах от Вилюйска – дорога через светлую сосновую тайгу. Почва – песок, грязи никогда не бывает: вода после дождя и снега легко впитывается и уходит под землю. Старые бараки, сложенные в потай из бревен, пожертвованных купцами Расторгуевыми по просьбе вилюйского урядника Антоновича, пришли в негодность в 70-х, прослужив более восьмидесяти лет. Было решено их сломать и построить новые корпуса для больных.