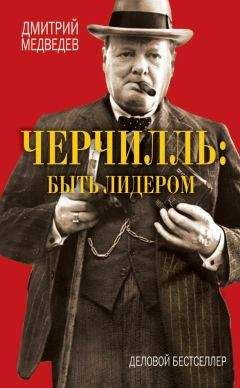Руслан Галеев - Каинов мост
Страдание одного человека в глазах другого — неправильно, неверно, не принято в хорошем обществе. Непризнание этого есть преступление. И тут стоит согласиться — человек, который не страшится собственной боли (неполадок в своем организме), психически нездоров, неполноценен. Не испытывая страха перед собственной болью, он способен без зазрения совести причинить боль другому существу. То же самое относится и к тем, кто испытывает гипертрофированные переживания и страхи по поводу гипотетической возможности боли. Известно, что отвлечься от одной боли помогает боль другая. Когда у нас болит зуб, мы стучим в стену кулаком. И боль в кулаке кажется нам порою приятной… Точно также психически ненормальный человек избавляется от собственного страха перед ощущением боли путем причинения боли другим существам. Именно поэтому убийцы с различного рода психическими отклонениями не дают жертве умереть сразу, а нередко пытают ее сутками. Смерть при постоянном страхе боли подсознательно начинает восприниматься как один из способов избавления от нее…
Человек, приставивший бритву к шее Вацлавски, не был психически ненормальным. Хотя, пожалуй, что-то в нем было не так. В его смутно знакомом лице, которое казалось пластмассовым из-за практически полного отсутствия мимики, в его манере говорить (слишком ровно, почти без интонаций), в том, как он угловато и не очень уверенно двигался, — во всем этом чувствовалось что-то ненормальное. Он словно выполнял программу, смахивая на зомби. И все-таки не думаю, что он был психически ненормален.
— Вы Архивариус? — проговорил этот странный человек в тот самый момент, когда слепящий свет внезапно погас.
Надо заметить, что я все еще лежал на полу, грязный, испуганный и, кроме того, ослепленный. Так что я, хотя и услышал вопрос и понял его смысл, не смог в тот момент ответить. Да и картина вжатого в стул и медленно шевелящего губами Вацлавски, пустыми глазами уставившегося куда-то надо мной, и странного незнакомца, прижимавшего к его шее старинную опасную бритву, — то есть то, что я в первую очередь увидел, когда глаза начали мало-мальски различать подробности окружающего, — все это, разумеется, не способствовало нормальному восприятию. И даже когда этот похожий на зомби незнакомец повторил свой вопрос еще раз, я смог только кивнуть.
И только когда лезвие — видимо, случайно — чуть сдвинулось на шее Вацлавски, и в ложбинку под кадыком потекла тоненькая струйка крови, а сам Вацлавски даже не дрогнул, я вдруг понял, что это странное шевеление его губ и пустой взгляд говорят о том, что капитан тигровых крайне, предельно сосредоточен. Настолько, что даже слегка порезавшая шею опасная бритва не смогла отвлечь его… И тогда, в ту же самую минуту осознания я успокоился. Сразу, вдруг, внезапно и прежде всего для самого себя. Успокоился настолько, что когда вопрос был повторен в третий раз, я произнес, пожалуй, не менее ровным, чем у незнакомца, голосом:
— Да, я Архивариус, — ответил я поднимаясь и одергивая костюм. — Что вы…
— Будет лучше, если вы помолчите, — оборвал меня странный тип и кивнул на Вацлавски, по-прежнему никак не реагирующего на происходящее. — Этот человек через несколько минут прикончит меня, поэтому просто послушайте…
— Да, но… — попытался было вставить я то, что совсем недавно поклялся никогда более не произносить. То есть все то же банальное «по какому праву». Но незнакомец снова меня оборвал:
— Просто слушайте и ничего не говорите. В моем рюкзаке — желтый конверт. Заберите его себе. Чуть позже вас найдет один человек, бывший курьер. Передайте ему этот конверт. И все. Это важно, и мне жаль, что я не успеваю объяснить вам, почему.
— И все-таки…
— Ом, — тихо, но не настолько, чтобы не быть услышанным, проговорил Вацлавски, и я снова оказался на полу. Боли не было, лишь мелькнули в глазах белые и черные полосы, а потом то самое спасение от боли укрыло меня теплым одеялом темноты, сквозь которое почти не пробивались истошные вопли разрываемого заживо незнакомца. «А ведь я его помню, — вдруг осознал я, — он как-то связан со смертью Мандаяна». Тогда газеты писали об этом целую неделю, и его лицо светилось отовсюду. Правда, не совсем то лицо, что-то было не так, но что? Кажется я потерял сознание до того, как нашел ответ…
Мне хотелось бы верить, что странный незнакомец мучался недолго. Хотелось бы, но я в это не верил. Когда меня, выворачиваемого наизнанку от увиденного, вытаскивали на улицу, тигры уже заканчивали свою работу, и все, что осталось от бедолаги — перевернутая арка грудной клетки, разрозненные внутренности и несколько неопределимых обломков костей, — обильно усеивало помещение, словно полосатые хищники поставили перед собой целью не столько сожрать человека, сколько пометить его кровью и останками максимум площади этого импровизированного пиршественного зала. Меня стошнило сразу, как только оберегавшее мое сознание забытье исчезло и я открыл глаза. Правда, сначала я решил, что это кровь Вацлавски, поскольку последнее из того, что я четко помнил, была шея капитана тигровых и бритва в руках незнакомца… Потом я увидел три фигуры, копошившиеся над чем-то бесформенным. Меня снова стошнило, а в голове какое-то мгновение бродила совершенно плоская, как ступня призывника, мысль — что же это, черт побери, такое там? И лишь когда одна из фигур оторвалась от того, чем была занята, и подняла ко мне лицо, которое вдруг оказалось лицом Вацлавски (абсолютно черные, лишенные белков глаза настороженно наблюдали за мной, а испачкавшая рот и подбородок, стекавшая на голую грудь кровь недвусмысленно давала понять, что случится со мной, если капитану что-то не понравится, поэтому я замер, стараясь смягчить конвульсии желудка), только в этот момент я понял, что выкрикнутое капитаном «Ом» было заключением жуткой тигровой мантры.
— Он сказал, — проговорил вдруг Вацлавски, и кровь еще обильнее полилась с его подбородка, — сказал, чтобы вы выполнили то, что он пгосил, сказал, что так написано… вы идите, Пётг Петьёвич, ни к чему вам видеть это…
Вацлавски снова опустил лицо к груде мяса, а меня начало рвать желчью, и теперь я уже совершенно ничего не мог с этим поделать. Тигры не обращали на мои мучения никакого внимания, Вацлавски тоже, и мне начало казаться, что он и не отрывался от своего жуткого, омерзительного кушанья, но он вдруг снова вскинул голову и проговорил:
— Гвайдеец, уведи айхивагиуса. Не видишь, плохо человеку?!
Это был тот же самый гвардеец, что пообещал выгрызть мне кадык несколькими минутами раньше. Теперь-то я понимал, что когда сожранный тиграми тип потребовал встречи со мной, гвардеец решил, что я виноват во всем случившемся. Теперь он вел меня по тому же коридору, аккуратно обхватив за плечи, и терпеливо ждал, когда новые судороги сводили мои старческие внутренности (хотя выдавить из себя организм уже ничего не мог, — все, что было, смешалось с кровью в той ужасной комнате)…
Потом под ногами стало светлее. Я понял, что мы вышли на улицу. Кто-то подбежал, подхватил меня, но я все время смотрел под ноги, находясь в какой-то прострации, а перед моими глазами все еще висела четкая картина: голый Вацлавски вгрызается в бесформенную мясную тушу… По моим щекам текли слезы — то ли от пережитого, то ли от бессмысленных спазмов, которые то и дело сдавливали мой желудок.
Спустя два с половиной часа Вацлавски, подливая мне в пиалу чифирь, скажет:
— Я так до сих пог и не знаю, кто кому хозяин — я мантге или мантга мне. — И это будут последние его слова, услышанные мной. Спустя еще четверть часа его разорвет прямым попаданием из «мухи» во время очередной атаки на башню.
Случится это за мгновения до того, как капитан Вацлавски произнесет свое завершающее «Ом». Гарнизон башни, лишенный поддержки стремительных полосатых хищников, продержится всего полчаса. За этот краткий период времени десять необычных смертников пройдут по коридору в минном поясе. Все они погибнут, но и башня не устоит. Смертники будут представлять собой живые принимающие колонки. Звук, который будет запущен с передатчика, разорвет самих смертников в клочья, уничтожит все живое в окружности двухсот метров и серьезно повредит удерживающий стержень башни. Стержень не даст башне рухнуть внутрь самой себя, что было бы, кстати, приди кому-то в голову в очередной раз реконструировать ее. Нет, башня рухнет всей своей тушей, подмяв под себя часть жилого массива, в том числе и недавно построенную монорельсовую дорогу. Даже нас — меня и того самого гвардейца, которому Вацлавски отдаст краткий приказ «Агхивагиус должен выжить!» — уходивших глубинными коллекторами в сторону Ботанического сада, накроет так, что еще несколько часов я буду не в состоянии двигаться.
Но прежде чем Вацлавски произнес эти свои слова о мантре и ее власти над собой, у нас состоялся долгий разговор… Боже, дай нам днесь, как принято говорить в подобных случаях. Впрочем, в воздухе уже витало ощущение финала, и это, пожалуй, чувствовали все, а я — лишь немногим острее, чем все остальные, поскольку имел некоторый опыт наблюдений за развитием человеческой истории.