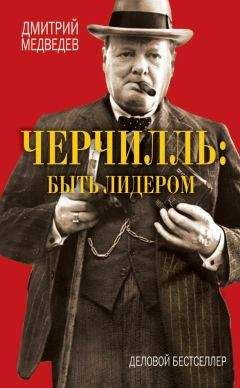Руслан Галеев - Каинов мост
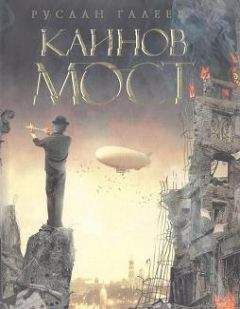
Обзор книги Руслан Галеев - Каинов мост
Моим друзьям: Евгении, Андрею и Павлу
Круг первый
КУРЬЕР
Пластиковый конверт с документами был передан человеку с незапоминающейся внешностью, человек растворился в серой дымке провинциального городка-спутника, город-спутник переместился за окна плацкартного вагона, а вагон под вопли раненых слонов двинулся в сторону Москвы. Работа сделана, день прожит, деньги перечислены. Мы возвращаемся вдвоем, я и Черчилль. Матрица накладывается на матрицу, круги на воде слишком похожи один на другой, а любая опасность, становясь привычной, превращается в рутину. И все же мы возвращаемся, и это единственное, что имеет значение.
Хотя Черчилль, наверное, не в счет, ведь он из тех, кого вроде бы нет. Я хочу сказать, что места он не занимал, денег на билеты не тратил, не пил в купе чай со вкусом недавно постиранного белья, и так далее и тому подобное. С точки зрения проводника Черчилля не было. С точки зрения большинства других людей — тоже. Черчилль был моим дополнительным шансом.
Минут через пятнадцать после того как поезд, вздрогнув всеми членами своего стального тела, отошел от тамбовской платформы, я закинул полупустую сумку на третью полку, переложил сигареты и документы в карман рубашки и собрался было выйти в тамбур, но заметил приближающегося проводника. Он был похож на снулую крысу, носил квадратные очки и неопрятную бороду. Кроме того, на нем был потрепанный, весь в катышках синий китель. Я заплатил за белье, попросил один стакан чая и отправился в тамбур. Терпеть не могу путаться под ногами у расстилающих белье пассажиров. Черчилль потащился со мной. Разумеется.
— Ты много куришь в последнее время, — заметил он, когда мы проходили туалетный предбанник, но там стояла какая-то молодая мамаша с ребенком, и я не стал отвечать. Ведь она могла решить, что я разговариваю сам с собою. Не хотелось выглядеть идиотом в чужих глазах. Если бы не ребенок, она показалась бы мне очень симпатичной девчонкой, а я, в частности, ненавижу выглядеть идиотом в глазах симпатичных девчонок. Несмотря на ее маленького спиногрыза, который проводил меня взглядом голодного аллигатора.
Зато в тамбуре никого не было, и я прошептал:
— Слушай, ты опять за свое? Это ведь Я курю, понимаешь, я. Какое тебе до этого дело?…
— Мне все равно, куришь ТЫ или нет, — равнодушно ответил Черчилль, — но меня не прельщает перспектива слинять из-за тебя раньше срока. Понимаешь?
— Слушай, я просто решил выкурить сигарету. Просто. Решил. Выкурить. Сигарету. Я.
— И что это меняет? — Черчилль любил уточнять с ехидной, всегда бесившей меня усмешкой. Вот и теперь он усмехнулся и повернулся ко мне боком, так что я смог разглядеть ножны черного вакидзаси и жесткую серую шерсть на короткой шее.
— ОК, это ничего не меняет. Теперь просто постарайся помолчать, ладно? Дай мне спокойно покурить. Сделай вид, что тебя нет, тем более что тебя действительно нет…
— Это спорный вопрос. — Черчилль умел быть настоящим занудой.
В нашей перепалке не было ничего особенного. Мы частенько цапались с Черчиллем. У него были свои взгляды на жизнь, у меня — свои. В детстве нас воспитывали разные родители и по телевизору мы смотрели разные мультфильмы. Обычное дело. Не думаю, что Черчилль обиделся, к тому времени он знал меня едва ли не как себя самого. А я был не самой комфортной личностью в плане общения. Да и чтобы пронять Черчилля, требовалось много больше, чем банальная просьба заткнуться. Поэтому я молча вывел на покрытом изморосью стекле слово «Х…Й» и не подумал извиниться. Хотя, наверное, стоило бы…
— Ты когда-нибудь слышал о Слепом Стороже Пристани? — заговорил Черчилль, когда моя сигарета истлела почти наполовину.
— Нет. Кто это?
— Ну… — Черчилль пожал плечами, — неважно. Он тоже жил в другом месте и в другое время.
— Что ты говоришь? — Почти все истории Черчилля происходили в другом месте и в другое время. — И ты, конечно, не скажешь мне, где это, а?
— Не скажу. Тебе интересно про Сторожа или снова сделать вид, что меня нет?
За окном плыли неприятные сумерки непонятного времени года. Одним словом, межсезонье. Смутное время. Ржавчина. Окно было грязное.
— Рассказывай…
Мало кто знал, что Сторож Пристани был слепым. По крайней мере, по представлениям большинства людей это принято называть слепотой. Люди таковы, каковы они есть, им на все хочется навесить ярлык, и все ярлыки у них далеко не первой свежести.
Но еще меньше людей знало о том, что у Слепого Сторожа Пристани был дополнительный шанс. Про это как-то не принято говорить, понимаете? К тому же в том времени и в том месте наличие дополнительного шанса считалось признаком вырождения, чем-то вроде болезни крови или врожденного уродства. В общем, Слепой Сторож Пристани не особенно этот факт афишировал, хотя на медицинском осмотре при приеме на работу был вынужден о нем сообщить. На него посмотрели косо, но тем не менее взяли.
Так вот, у Слепого Сторожа Пристани были плохие отношения с его дополнительным шансом. Они все время ссорились, иногда не разговаривали месяцами. Старались все делать назло друг другу, словно престарелые, до ужаса надоевшие друг другу супруги. И как-то раз дошло до того, что Слепой Сторож Пристани сбросился с крыши пятиэтажки — только чтобы избавиться от надоевшего дополнительного шанса. А на следующую ночь Слепого Сторожа Пристани сожрала Большая Мурена. Мораль проста: никогда не знаешь, что тебя ждет, понимаете? А раз так — семь раз отмерь, один раз — сбрасывайся…
Но Сторож не погиб. Большая Мурена просто срыгнула его на пристань и сказала, что с этого момента не будет у него ни прошлого, ни будущего. Только ожидание на пустой пристани и слепота. Так и случилось.
— Ну, и к чему ты это рассказал? — спросил я, вминая опаленный фильтр в брюхо пепельницы. — То есть история занятная, не спорю, но ты же не просто так ее рассказал, да?
— Вроде того, — кивнул Черчилль, вглядываясь в сумерки за окном. Шерсть на его загривке отливала серебром с примесью все той же ржавчины. — Шансом Слепого Сторожа Пристани был я. Это от меня он избавился тогда. Я пытался помочь ему. Так же, как и тебе. Но дело, если честно, не в этом. Просто мне нужно было тебе об этом рассказать, а тебе не стоит забывать про Слепого Сторожа.
— Ах, ну да, мораль всегда полезна и так далее.
— Нет. Мне плевать, запомнишь ты, о чем эта история, или нет. Главное, просто помни про Слепого Сторожа. Когда-нибудь тебе понадобится помощь, и…
Если бы я знал в тот момент, о чем говорит Черчилль… Но я даже не догадывался и потому понял его по-своему.
— Черчилль… Понимаешь,я вовсе неуверен,что мне нужна помощь… Но и расставаться с тобой я не собираюсь. Кто будет держать меня в курьерах, если я останусь без тебя? Но я отнюдь не воспринимаю тебя как возможность…
— А разве ты можешь знать наперед? — перебил меня Черчилль. — Разве ты умнее Слепого Сторожа Пристани? Как бы мы ни относились друг к другу, что бы ты ни говорил, но я именно возможность. А все остальное — довесок за счет заведения.
— И все равно ты напрасно читаешь мне мораль. И если я что ляпну сгоряча, не обращай внимания. Мы же вроде как друзья…
Мы помолчали. Я достал еще одну сигарету, долго крутил в пальцах. Курить не хотелось, возвращаться в купе — тем более, а стоять просто так… Ну, вы понимаете. Есть такая тишина — пустая и гулкая, как барабан. Поэтому я все-таки закурил.
— Сколько у тебя жизней, Черчилль?
— Как обычно, девять. А почему ты спросил?
— Я имел в виду… Ну… То есть сколько осталось?
Вообще-то задавать такие вопросы неправильно. Потому что это нам, людям, смерть видится чем-то нереальным, чем-то, во что трудно поверить применительно к собственной шкуре. А они, наши дополнительные шансы, умирают по девять раз. И помнят о каждом. Для них смерть — это не финал существования, а его составляющая. Им приходится с этим мириться, но говорить об этом они не любят.
— Я умирал восемь раз, — помолчав, ответил Черчилль (а я уже начал надеяться, что он промолчит), — осталась последняя попытка. Так что, — он усмехнулся, пожал плечами и вскинул хвост трубой, — так что в чем-то я теперь — человек. Почти. А ты ответишь на мой вопрос?
— А ты задал мне вопрос? — удивился я.
— Нет, но задам.
— Валяй.
Дверь с шумом распахнулась, и влетело трое подростков в спортивных костюмах. Через мгновение тамбур наполнился шумом, матом, дымом и фразами: «Соловьева — сука, но чикса клевая, не дает ни х..я пока, ну, х..ли, время есть, подождем…» Подростки демонстративно сплевывали на пол и стены тамбура, с вызовом поглядывая на меня. Я мог бы заставить их слизать собственные плевки, пройти по вагону голыми и почистить обувь всем пассажирам. Любой курьер мог бы заставить этих молодых ублюдков раз и навсегда забыть о вызывающих взглядах. Но ни один курьер не стал бы делать это без крайней необходимости, если он возвращается из трипа и везет на корке мозга слишком много воспоминаний об адресате. У курьеров масса неписаных законов, а моя гордость и чувство самоуважения не страдают от неуемной черной энергии, характерной для подростков. В Библии сказано: мир зол в юности своей. Или что-то вроде того. Это очень точное замечание. Поэтому я терпеливо ждал, когда стадо молодое и знакомое свалит из тамбура. Черчилль молчал. Я тоже. Минут через пять подростки дружно сплюнули сквозь зубы и, бросив на меня последние взгляды, переполненные робкой надежды на потасовку в крошечном тамбуре, скрылись в туалетном предбаннике… Я пожалел, что не ношу с собой хозяйственный инвентарь, — в задымленном пространстве можно было без особого труда развесить десяток-другой топоров.