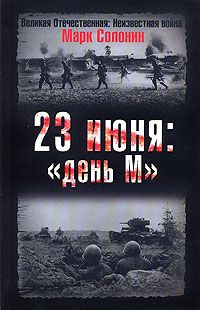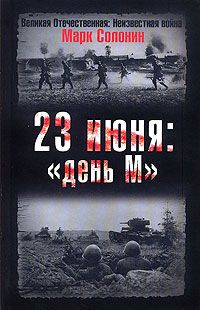Владислав Русанов - Гонец московский
Вилкас медленно поднял взгляд.
Горбоносый чернобородый воин, чуть постарше прочих, улыбался от уха до уха и смотрел на него в упор.
– Что зенки вылупил? – обрадовался он, заметив, что привлек наконец-то внимание парня. – Голь перекатная!
Литвин, сделав над собой усилие, вернулся к еде.
– Нет, ну ты погляди на него! Чавкает, будто из голодного края! Морда литовская! Не хочет русскому человеку слова сказать…
– Может, он, того… по-русски не понимает? – протянул парень со шрамом на левой щеке чуть пониже глаза. – А, Пантелеймон?
– Ну да! Куда нам, сирым и убогим… У них и вера кафолическая, нe то что наша – православная! – поддержал его еще один – курносый, пухлощекий и румяный.
– За стол сел, лба не перекрестил… – рассуждал вслух Пантелеймон. – Чисто басурманин. Лезут и лезут на Русь Святую. С восхода солнца – татарва поганая, а с заката – немцы с литвинами да полячишки с мадьярами.
Вилкас торопливо доедал. Он предчувствовал… Да что там предчувствовал! Точно знал, что добром все это не кончится. И неизвестно еще, когда в следующий раз доведется плотно перекусить.
– Взять бы его за шкирку, да рожей поганой в кашу! – с вызовом произнес пухлощекий. – Ишь, рожа литовская – бельмами зыркает, желваки гуляют… Нахохлился, что петух драный!
– Gaidys[134]! – захохотал Пантелеймон, выказывая недюжинные знания литовской брани. – Skarmalius[135]!
Парень со шрамом вскочил, под общий гогот выбрался из-за стола. Остановился напротив Вилкаса, уперев кулаки в бока и перекатываясь с пятки на носок.
– Задай ему, Всемил! – подбодрил его пухлощекий.
– Давай, покажи этой чуди белоглазой, кто в здешних землях хозяин! – Пантелеймон скрестил руки на груди, ожидая дармового развлечения.
– Что ты молчишь, литвин бельмастый? – сквозь зубы процедил воин со шрамом. – Язык откусил от жадности? Смотри не подавись, пес! Давай я помогу…
Он протянул руку, очевидно намереваясь подбить край миски, чтобы остатки каши выплеснулись на стол и в лицо Вилкасу. Но литвин перехватил его запястье. Сдавил, дернул на себя, вывернул так, что забияка улегся животом на столешницу.
Свободной рукой Вилкас пододвинул миску с едой под нос шипящего от боли дружинника. Наклонившись, прорычал в оттопыренное ухо:
– Ты ошибся! Я – не пес, я – волк. Зато ты – sunytis snargliuotas[136]. Srutos[137] ты… Ozys nusases[138]. И ты у меня кашу эту по-собачьи жрать будешь!
Всемил дернулся, но литвин держал крепко.
Остальные дружинники вскочили. Кое-кто схватился за ножи.
– Ты что, несчастный, смерти ищешь? – Пантелеймон, горбясь, шагнул вперед.
С неожиданной прытью корчмарь выбежал между враждующими сторонами:
– Эй, эй! Только не у меня! Я драк не потерплю! Тем паче со смертоубийством!
– Ты чего, Пахом? – прищурился старший дружинник. – Ты же русский человек! Что ж ты за поганого литвина вступаешься?
– А мне все равно, кто ты – литвин, татарин или русский! Ко мне люди поесть приходят и отдохнуть! Я драк не потерплю! – упрямо повторил корчмарь.
Вилкас, радуясь неожиданной передышке, шарил свободной рукой по поясу, стараясь отцепить палицу. Особой надежды на победу в свалке он не питал. Слишком много врагов – скопом навалятся, не отмахаешься, с ног собьют и на полу запинают, а потом дорежут, как поросенка. Но двоих-троих можно успеть покалечить или убить, а это не самый плохой счет.
– Слушай, Пахом, – Пантелеймон говорил спокойно, но его соратники волновались и возбужденно перешептывались, прикидывая, как ловчее броситься на литвина, яростно стреляли глазами в его сторону. – Отойди, Пахом. Не мешай забаве. Обещаю тебе, убивать мы его не будем. Здесь… А если Всемила отпустит, то и вовсе не будем.
– Я стражу позову, – упрямился корчмарь. – Князю челобитную подам…
– А мы соберемся, и в дорогу. Ищи-свищи нас потом. Только запомни, Пахом, земля русская – тесная. Глядишь, и перестренемся. Лучше уйди в сторону.
– Не уйду.
Распростертый на столешнице Всемил снова зашевелился. Вилкас придавил его посильнее. Шепнул:
– Тихо лежи, щенок. Руку сломаю.
Ладонь уже привычно обнимала рукоять палицы.
«Жаль, друзей разыскать не успел…»
– Что ты с ним болтаешь, Пантелеймон! – воскликнул высокий широкоплечий дружинник с кулаками что твои кру́жки. – Какой он русский, коль инородцев защищает! В зубы раза, и за дело! – Он поравнялся со старшим, глянул на корчмаря сверху вниз.
Пахом попятился, но и не подумал отступать:
– Уймитесь…
– Отступись, борода! Русский ты аль нет?
– Я-то русский, а вот вы каковские? – угрюмо проговорил корчмарь. – Сами потом жалеть будете, да каяться, да горькую пить…
– Что морозишь такое, смерд? – Горбоносый дружинник сделал еще шажок вперед. Вилкас видел, что в его опущенной руке поблескивает лезвие широкого ножа.
Парень хотел предупредить Пахома, чтобы не играл с огнем. Похоже, им противостоят отъявленные головорезы, которым наплевать на совесть и правду. И наверняка они не местные – свои убоялись бы княжеского гнева, не вели бы себя столь нагло, будто не гости они, а захватчики, получившие город на разграбление…
– А ну уймитесь! – грянул сзади молодой, властный голос.
Литвин хотел оглянуться, но боялся отводить взгляд от готовых броситься на него людей.
– Кому говорю, Пантюха! Живо назад! И железки поубирали! Кому сказал?!
Еще мгновение назад хорохорившиеся дружинники враз сникли. Пухлощекий парень отвел глаза, показал пустые ладони. Пантелеймон неуловимо быстрым движением спрятал нож за спиной.
– Да не беспокойся, Семен Акинфович… Пошутковали мы!
– Я вам сейчас покажу, шутники!
Краем глаза Вилкас заметил движение справа от себя, а потом широкоплечий молодец в ладно скроенном кафтане отодвинул в сторону корчмаря. Под его тяжелым взглядом дружинники все больше и больше скисали. Кое-кто из задних попытался бочком убраться подобру-поздорову, но громкий и властный окрик остановил их:
– Куда?! Как шкодить, так они тут как тут! А отвечать за вас кто будет? Быстро ножики поприбирали, а то как бы беды не вышло!
Его слушались беспрекословно.
Даже Пантелеймон, который до этого мига казался Вилкасу предводителем, повиновался, не моргнув глазом.
– Не взыщи, Семен Акинфович… – пробормотал он, словно извиняясь. – Он Всемила обидел, морда литовская… Разве за товарища вступиться – зло?
– Всемила? – Семен обернулся. Надвинутая на лоб шапка, опушенная соболем, придавала ему внушительности. Литвин видел ровно подстриженную темно-русую бородку, сурово сдвинутые брови и яростно сверкающие карие очи. Да рукоять сабли, украшенную черненым серебром. – Чем он его обидел?
– А руку ему ломает, не видишь ли, боярин? – пояснил дружинник, предлагавший дать Пахому в зубы.
– Руку? Ломает? – ехидно переспросил Семен. И прикрикнул: – Не вижу! Вижу, что держит. Ласково держит. Нежно… – Боярин нагнулся к перекошенному от растерянности и унижения лицу Всемила. – Поди распускал ручки-то? А, Всемил? Скажи честно. Распускал али нет?
– Прости, Акинфович… – заскулил плененный Вилкасом дружинник. – Я же не со зла. По глупости…
– Кто бы сомневался! Разве ты от великого ума что сделаешь?
Семен покачал головой. Взял отмеченного шрамом воина за ухо:
– Слышь, литвин, отпусти его, будь так добр.
Вилкас разжал пальцы. Шагнул назад, на всякий случай не отпуская булаву.
Боярин, скривившись, будто держал кусок гнилой шкуры, отшвырнул Всемила к остальным. Проговорил, взмахивая кулаком на каждое слово:
– Какие же вы русские? Позорище вы всея Руси! Мучаюсь я с вами, мучаюсь… Когда бы не кони уставшие, давно бы вас уже из Смоленска выгнал, а князь Александр только спасибо на это сказал бы. По-хорошему, вам прощения просить у парня надо, да куда уж вам… Лаять только можете да силой кичиться, когда полтора десятка на одного. Вон с глаз моих!
Он топнул ногой, и дружинники, втянув головы в плечи, побрели к выходу.
Семен подождал, пока спина Пантелеймона, отступавшего последним, скроется в дверях, а после повернулся к Вилкасу:
– Прими мои извинения, парень. Мои люди от скуки бесятся. Они на самом деле неплохие, только озорные чересчур. Росточком вымахали, а умом – все еще дети малые. Вот мне и приходится за ними приглядывать, а коль не усмотрел – за них извиняться. Потому и прошу прощения у тебя.
Литвин пожал плечами:
– Да чего уж там, боярин. Я не в обиде.
– Ну вот и хорошо, – Семен Акинфович улыбнулся, скинул с головы шапку.
До того искренним было его лицо, что Вилкас невольно улыбнулся в ответ.
Пахом, о котором, как показалось, все забыли, тяжко вздохнул и присел на лавку.
– В гроб они меня вгонят, – проговорил он, утирая рукавом крупные капли пота, выступившие на лбу и обширной плеши. – Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских…