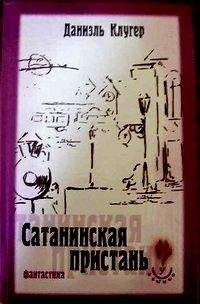Андрей Валентинов - Ангел Спартака
Итак, улица Этрусская, поздний вечер, летний месяц Юноны, сопящий Слон под боком. Обстановка ясная, можно принимать решение и отдавать боевой приказ. Это, как учил Крикс, самое важное. Ошибаешься в чем-то малом, дорогу перепутаешь, или время выступления, или...
— А ты не из наших, не из римлян, Папия. Чистая у тебя речь, а все-таки заметить можно.
Ничего от тебя не укроется, мой Слон! Зато я знаю слово «перлюстрация». Так ты в самом деле центурион?
Оска с римлянином не спутаешь, верно. Вначале я думала письма Спартаку на родном наречии сочинять, старинным письмом. Вскроет бдительный легионер свиток, что я гонцу передала, — а там буквы греческие, да еще справа налево. Вот тебе и перлюстрация! А потом решила — нет. Необычному письму больше внимания, захотят — прочитают. Значит, надо писать по-латыни, только с ошибками, фразами короткими, словно грамоту еле выучил, только буквы на камнях знаешь[6]. Ничего особенного: от раба к господину, господин в отъезде, все новости римские знать желает — и про консулов, и про сенат, и даже про претора Квинта Аррия...
* * *Придумывать ничего не пришлось. Не первый ты, центурион Марк Опимий Слон, — и не последний тоже. Улицу Этрусскую я как свои пальцы знаю, почти каждый вечер сюда захожу. Так что пройдем мы этот дом-остров, затем — следующий...
— А еще мне твои волосы понравились. — Слоновьи губы в самое ухо дышат. — Красиво ты прядь выкрасила. Взглянешь — мимо не пройдешь.
— Правда? — улыбаюсь. — Только я не красила волосы, центурион Марк Опимий. Седина это. Год назад муж у меня погиб. Я, как узнала, с собой покончить решила. Выжила, а вот седина осталась.
— Ты?!
Засопел, подумал. Разжалась лапа, что мои плечи сжимала.
Погиб? Твой муж, значит, из наших был, из вояк?
Один вопрос, два ответа. «Да» и «нет» не говорить.
— Над когортой был начальником. Битва у Везувия знаешь?
Ну что, Слон? Если сейчас извинишься, отстанешь значит, счастлив твой гений.
Снова сопеть принялся. Наконец кивнул.
— Ясно! А тебя, значит, в Кампании и подобрал. Выговор у тебя оскский, не спутаешь. Ну пошли, вдове денарий не помешает.
— Угу, — вздохнула, — не помешает.
Жаль, в военных делах я ничего не смыслю. И Аякс мне тут не помощник, и друзья мои римские. Самой соображать? А как тут сообразишь? Спартак велел: «Пиши обо всем, мы разберемся». Так обо всем и не напишешь. Вот Квинт Аррий, к примеру...
— Сюда, мой Слон, сюда. Заходи!
Дом как дом: красный кирпич, четыре этажа. А что зашли не в дверь, а в ворота, тоже понятно — у многих комнат лестницы во внутренний двор выходят. К тому же темно, не присмотришься — не сообразишь.
Значит, Квинт Аррий. Точно! Из-за него и письмо не отправила. Ладно...
Поглядела я наверх, в темное небо. Луне-Селене только после полуночи быть, к тому же ветер тучи нагнал. В трех шагах ничего не увидишь.
В трех — нет, а в вот в двух...
— Скажи, центурион, таких героев, как ты, наверно, в лучший легион направляют. К претору Квинту Аррию?
Не удивился даже. Хмыкнул, брюхо огладил.
— Га-га-га! Точно, к нему. А ты, вижу, Папия, разбираешься. Молодец! Легион наш отборный, из ветеранов, каждый не меньше чем три похода под Орлом отшагал. Ты давай к нам, в обозе пристроишься. Если баба крепкая, за день мешок монет огребешь, со спины не вставая. Или по-собачьи предпочитаешь?
— Угу.
Вновь поглядела, но уже не на небо, вокруг. Пусто, тихо, темно. А откуда в окнах свету быть, если дом уже год как пустой? Крыша рухнула, вот и выселился народец.
— А ты зря денарий не потратишь, Слон? Погляди сначала!
Упала туника гиеропольской ткани на землю. Улыбнулась я, тунику нижнюю огладила.
— Дальше?
— Гы-ы-ы!
Гляди, Слон, гляди, для того и снято! На меня гляди, на Папию Муцилу, вдову гладиатора Эномая, а не на то, что у меня в руке. Нравится? Сопишь, слюни пускаешь, уд свой поглаживаешь? Сейчас я и нижнюю тунику скину, полюбуешься, римская свинья!
Все правильно. Грань чужой силы и своей слабости.
Грань.
— Знаешь, зачем я раздеваюсь перед тобой, центурион? Нет? Сейчас узнаешь!
Невелик секрет — не люблю я в крови пачкаться. Трудно отстирывать! А еще мне твой смех не понравился. И брюхо тоже.
— Диспатер, Отец Подземный, Невидимый...
АнтифонМой Гай, Гай Фламиний Не Тот, как-то меня обрадовать решил — трагедию греческую прочитать. Перевел, постарался, слова нужные отыскал. Стала я слушать, только вот беда: он читает, я смеюсь. Вроде все про грустное, про богов злых, про то, как сын мать родную зарезал, — а все смеюсь да смеюсь. Расстроился Гай, хотел даже таблички восковые в очаг кинуть. Опомнилась, конечно, уговаривала долго, успокаивала. Хорошие стихи, это я плохая. А может, и не только я. Поэт греческий всех напугать решил, а чем пугать-то? Его бы на месяц в рабский эргастул, чтоб цепи потаскал, — или в первый ряд манипула, когда бой начинается. А то — Рок, понимаешь, Судьба! Так вот в трагедии этой убитые к своим убийцам являлись — пугать, слова страшные говорить. И пугались, злодеи, каялись, к богам взывали.
Ко мне тоже приходили, только не страшно было. И как им меня напугать? Дохлые они, а я живая, значит, мой верх Ничего вы мне не сделаете, не ваша власть, не ваша сила. А подохну — и что? И это уже было, не страшно!
Наверное, потому и смеялась.
* * *С Гаем мы прямо в дверях столкнулись. Поднялась я по лестнице наружной прямо на пятый этаж, почти под самую крышу. Хорошо хоть бегаю каждый день, а то с непривычки и задохнуться можно. Здесь, на Квиринале, дома не в четыре этажа строят — в шесть. Пробовали выше, так не получилось — стены не выдерживали.
Подошла почти к самой двери, две ступеньки только осталось. А тут — Гай. Из дверей. В тоге своей старой.
Ой!
Головой помотал.
— Папия? Ты?! Вот хорошо! То есть...
Про «то есть» я уже догадалась. Не станет он средь ночи без причины из дому выскакивать. Значит, есть причина.
Шагнула выше, в щеку парня поцеловала, прямо там, где ямочка. Ничего, мой Гай, я с тобой!
— Могу помочь?
Задумался на миг, вновь головой покачал.
Наверно. Титу Лукрецию очень плохо. Ну ты знаешь...
Знаю, не в первый раз. Значит, пропала ночь.
* * *— Нам сейчас налево.
— Нет, мой Гай. Еще один квартал, я помню. Еще квартал, там на углу таберна, на вывеске — рак, ты еше рассказывал...
— Извини, Папия. Надо же, я — римлянин, не найти дорогу. Сейчас ночь...
— Сейчас ночь, ты волнуешься, а Тит Лукреций Кар — твой друг. Не бойся, мой Гай, я помню дорогу, я ничего не забываю. Ничего не бойся, Гай Фламиний, когда я рядом, я тоже твой друг, правда, я — не такая сволочь, как этот Кар, не выродок, травящий себя дурман-травой, заставляющий своих друзей страдать и умирать вместе с ним. Ничего, мы откачаем твоего Кара, будет как новенький сестерций, а потом я поговорю с ним, так поговорю!..
— Он — гений, Папия. Мы все, я, Марк Цицерон, ты, обычные люди, хорошие люди, талантливые. А ты еще — очень красивая, самая красивая женщина в мире. Он — гений, хрупкий, слабый человек, в которого вселилась высшая сила. Эта сила, этот даймон, терзает его, рвет изнутри, убивает. Мы должны быть рядом.
— Я — не самая красивая, мой Гай, я не талантлива, и я — не хороший человек. А твой Кар — никакой не гений, просто талантливый поэт, начитавшийся греческих книг, от которых в его голове заварилась каша. Эту кашу он и сдабривает дурманом, а вы с Марком Цицероном вместо того, чтобы посадить его на цепь и облить холодной водой, охаете и ахаете, глядя, как парень убивает себя. Но я не лучше его, мой Гай!..
— Нет-нет, Папия, не клевещи на себя, ты... ты самая лучшая. Но не суди Кара, он — не просто поэт, он знает что-то нам неведомое, запретное...
* * *Марка Туллия Цицерона мы встретили возле наружной лестницы, ведущей под крышу громадного дома-острова. Каждому — свое. Мой Гай жил на пятом этаже, я — на втором, Марк — на первом. Лукрецию Кару достался третий.
Пока Гай с Марком круглолицым наскоро здоровались, дыхание переводили и головами качали, я успела удивиться в который уже раз. Ночь, беда, мы бежим, сандалии теряем, а Цицерон свеж, брит, в новой тоге, каждая складка уложена. И такой он всегда. Когда только успевает?
И тога непростая, лучшей шерсти, сирийской. С той, что на моем Гае, и сравнивать стыдно. А Цицерон его не богаче, не каждый день обедает.
Как-то Марк сказал: «Я — пока никто, у меня даже сущности нет. А вот тога есть». Это он пошутил.
* * *— Вот и я ухожу, Папия, понимаешь?
На белом, белее остийского мела, лице Тита Лукреция — белые глаза. Страшные, холодные.
— Мы все уходим, Папия. Сначала — ненадолго, потом — навсегда. Оставь.
Грязное ложе, грязное покрывало, грязный, небритый римлянин. И я — на коленях. Гай и Марк рядом, молчат, ждут. Им страшно, но они готовы помочь, Лукреций — их друг, для римлян дружба свята. Только они не знают, что делать, сегодня Кар порадовал нас чем-то особенным, от курительницы несет такой дрянью, что впору в окошко прыгать.