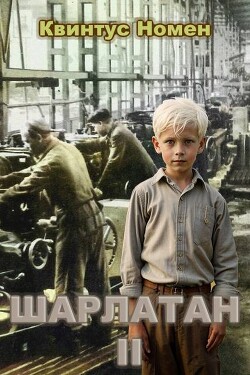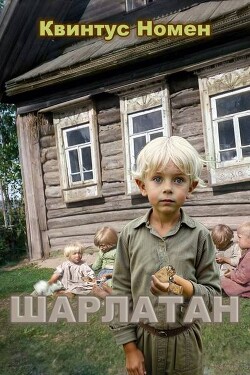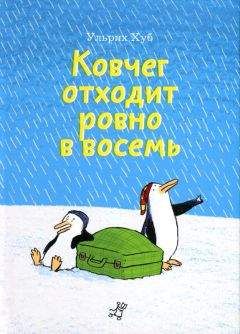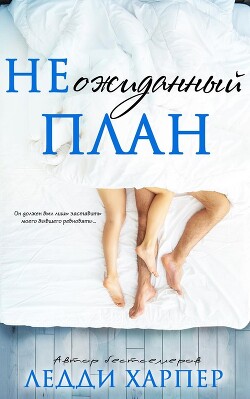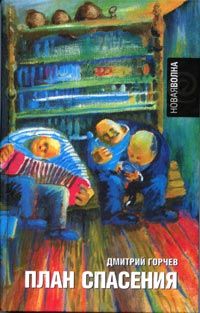Шарлатан 3 (СИ) - Номен Квинтус
А еще я порадовался тому, что еще в октябре заработал КЗВМ — Карачевский завод вычислительных машин. Потихоньку так заработал, там было запущено уже производство печатных плат, цех по выпуску «шкафов» (почему-то корпуса будущих компов в документах именно так и называли) и заканчивалась наладка конвейера, на котором все платы паять будут. А к Новому году должны были запустить в работу и «цех по производству матриц памяти», а еще два больших цеха, в которых было запланировано производить «периферийные устройства», строители должны были в начале весны сдать под установку оборудования. Вроде бы весомых результатов еще не было, но парни-радиоэлектронщики, которые первую ЭВМ сделали, сейчас ускоренно готовились еще две изготовить, и они говорили, что поставленные из Карачева печатные платы помогут им до нового года не одну новую машину собрать, а минимум две.
А единственная пока «наша» машина теперь обслуживала только «мою» группу программистов, и работа потому двигалась очень быстро. А вот когда в следующем году таких машин станет уже много, возможно даже, что и больше десятка — вот тогда все, включая даже Светлану Андреевну, поймут, что мы делаем очень нужное и, главное, полностью окупающее все затраты, дело. Потому что пока она, даже несмотря на то, что героически приходила на занятия «курсов по ускоренной подготовке программистов», не совсем понимала, зачем все это нужно…
И тем более не понимала, почему для меня так важен проект в Шарье: там-то собирались всего лишь полупроводниковые приборы выпускать (и для начала — силовые диоды для железнодорожников), а в СССР диоды (правда не силовые) же восемь лет как делались и даже второй год транзисторы на «Светлане» выпускаться стали. Вот только меня «светлановские» транзисторы ни с какой стороны не возбуждали, а после того, как наши кристаллографы изготовили своих парочку, они перестали нравиться даже университетским фанатикам-радиолюбителям: у них рабочая частота едва добиралась до пары мегагерц, да и то для подбора годных приходилось из двух десятков в принципе работающих изделий одно относительно терпимое выбирать. Да и цена нынешних транзисторов заставляла даже флегматичных бухгалтеров Минместпрома вспоминать совершенно не бухгалтерские термины — а вот по расчетам парней с кафедры кристаллографии при серийном производстве изделий из кремния цена транзистора должна составлять что-то в пределах рубля. То есть раз в пятнадцать дешевле даже «светлановской» отбраковки — и это очень сильно стимулировало работниц финотдела денежек на Шарью не жалеть.
А у меня в группе программистов тоже был достигнут серьезный такой прогресс: была закончена разработка «полного» интерпретатора (то есть уже «с функциями») языка программирования, названного (опять на латыни) Lingua и теперь народ героически ваял на нем уже нормальный компилятор. Там, конечно, своих трудностей более чем хватало: интерпретатор мы смогли «запихнуть» в семь килобайт, а трехпроходному компилятору на «нормальную» программу просто памяти не хватало — но получилось и тут выкрутиться, хотя, по моему глубочайшему убеждению, через одно заднее неприличное место, если использовать слова классика. Парни из политеха все же изготовили «нормальный канал», работающий с шестнадцатью внешними устройствами, и «изобрели» «внешнее устройство» в виде модуля памяти на еще шестьдесят четыре килобайта, так что вроде можно было программы на «Лингве» объемом где-то до пары тысяч строк компилировать без особых проблем. Чисто теоретически вроде бы было можно, а уж что у нас получится, предсказать пока никто не брался — но народ предсказаниями и не увлекался, а просто упорно работал. Под руководством Неймарка работал: все же Юрий Исаакович был математиком от бога и быстро разобрался в том, как лучше такую работу вести.
А еще оказалось, что Ю Ю тоже в математике отнюдь не профан, и она немало полезного по этой части успела сделать. Но меня «любимая» тиранила в основном совершенно иным способом. Я уж не знаю, как ее контора организовала в университете новую спортивную секцию на кафедре физо, но это было сделано. И в секцию сразу же записалось человек двадцать, правда больше частью первокурсников. Но как записалось, так и выписалось: эта советская китаянка очень качественно выполняла свою работу, которая, по ее же собственным словам, сводилась к тому, чтобы сделать из меня «настоящего бойца, способного постоять за себя». Но именно из меня, и уже после первой тренировки в секции восточных танцев половина народу отсеялось: она такие нагрузки людям дала, что некоторых еще у середине занятия просто стошнило. А на вторую тренировку пришло человек шесть всего — и на четвертой остался один лишь я. Не потому что я был самым сильным и выносливым, Ю сказала, что остальным она специально «немножко иначе» показывала, что им следует делать и как…
И к нам в зал никто даже поглядеть на тренировки не заходил, и Ю Ю этим пользовалась: я с тренировок из зала буквально выползал на четвереньках. Но и сам довольно быстро заметил, что и выносливости у меня заметно прибавилось, и силушка какая-никакая поднабралась. И когда я было решил, что уж теперь-то можно будет немного и расслабиться, Ю показала мне то, чему я должен буду научиться на следующем этапе тренировок. Она всего лишь взяла простую бамбуковую палку длиной метра два и толщиной сантиметров в пять (сказала, что ей специально такие привезли) и так начала ей махать и крутить…
В общем, если я хотя бы наполовину так же палкой махать научусь, то ко мне точно никто ближе чем на пару метров просто подойти не сможет. Правда, вопрос «а где мне на улице такую палку взять» остался без ответа — но если приспичит, то я и от какого-нибудь забора палку оторву. Причем, как сам с удивлением выяснил, легко оторву: как раз в конце октября закончилось строительство еще одного корпуса университета (на этот раз «лабораторного» для радиофизиков) и Ю провела одну тренировку, как раз «разбирая» забор вокруг этой стройки. То есть мы вместе его «разбирали» — и ведь разобрали, причем я даже никаких увечий себе при этом не нанес!
Я у «подруги» поинтересовался, много ли людей в Китае умеют так «защищаться», калеча всех, кто на них просто посмотрит косо, и умеет ли так же действовать ее сестра — а она с какой-то грустью ответила, что в Китае такому учат тех лишь, кто «потупее», а сестра у нее умница и поступила в очень хороший институт.
— Мне почему-то кажется, любимая, что ты мне нагло врешь: сама-то ты тоже университет закончила!
— Да, но я училась всего лишь в университете Харбина, по советским меркам это почти как техникум, разве самую малость посолиднее. Там, в Китае, с преподавателями нормальными очень плохо еще, поэтому все, у кого голова нормально варит, стараются в СССР учиться поехать, ну или в Шанхай или в Пекин.
— Но ты же вообще советская гражданка, почему же ты в Маньчжурский университет учиться пошла?
— Меня туда взяли потому что отец был советником в посольстве Советского Союза, а в Хабаровске меня не приняли даже в институт путей сообщения… по конкурсу не прошла. Так что сестренка у меня умненькая, а я, значит, тупая.
— Ну да, одна такая тупая такой красивый алгоритм парсинга арифметических выражений составила, что аж завидно! Ты совсем не тупая, просто еще не совсем осознала, в чем у тебя талант главный.
— А ты уже осознал! — с какой-то горькой усмешкой ответила мне Ю.
— И ты уже осознала, просто самой себе в этом признаться еще боишься. У тебя есть способность не просто очень быстро схватывать суть логической задачи, но и быстро анализировать все возможные неприятности при ее решении. А базовой, даже, как ты говоришь, на уровне техникума, математической подготовки тебе хватает для того, чтобы осознавать неприятности чисто вычислительного плана, вроде переполнения или вероятности получить при расчетах чего-то, напоминающего деления на нуль. Из тебя, мне кажется, может получиться просто великолепный программист!
— Ты мне льстишь, причем специально чтобы я тебя так не нагружала тяжелыми упражнениями.