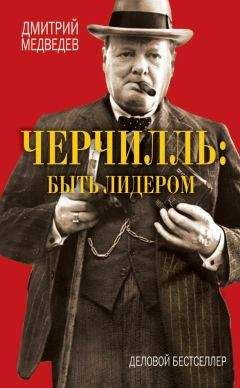Руслан Галеев - Каинов мост
— Я не совсем вас понял, капитан, — признаюсь я.
— Ну, по сути, что могли эти смегтники? Ну, сколько они могли тащить на себе взгывчатки? Немного, Пётг Петьёвич. Возможно, если бы все они достигли башни, ущегб и был бы сколько-нибудь сег'езен. Но чтобы сквозь снайпегов тиг'ёвых, и все?… Это даже не смешно. Полагаю, что этими смегтниками нам пгосто отводят глаза.
— И чего же нам следует ждать, капитан?
— Понятия не имею, Пётг Петьёвич… Того и стгашусь.
Утро было кровавым. В полнеба разверзлась и росла бесконечно алая рана, а под нею — внезапно притихший город. Не просто притихший, а именно внезапно, враз отрубив все звуки, оставив только это небо перед моими глазами: не было ни канонады, ни выстрелов, ни криков. Я медленно встал и понял, что ноги совершенно затекли и до проявочной мне не дойти. Сел на стул, вытащил дрожащими пальцами сигарету, закурил. И только тогда в мир моей тишины ворвалась отчаянная, взрывающая барабанные перепонки капель плохо завернутого крана.
Восьмизарядный пистолет немецкого конструктора Люгера, сорок пять лет добросовестно отслуживший германской армии, теперь лежал разобранный на старой газете, блестя только что смазанными частями. Поодаль, на обрывке все той же газеты, лежали восемь девятимиллиметровых патронов. Присланный Вацлавски гвардеец с совершенно детским восхищением в плоских, стального цвета глазах, слишком близко посаженных на большом низколобом черепе, протирал куском войлока замок парабеллума. Сам Вацлавски стоял за его спиной и с практически таким же восхищением наблюдал за кучкой бессмысленных в таком виде железок.
— Занимательнейшая штука, Пётг Петьёвич, занимательнейшая! Вы даже не пгедставляете, какой это был пистолет в свое вгемя. Да и теперь пги хм… должном обгащении, он весьма и весьма неплох…
— А как вы считаете, — спросил я, подходя к банке с кипящим темным напитком, — до того, как ваш гвардеец привел его в хм… должный вид — он бы выстрелил?
— Скогее всего нет, — покачал головой Вацлавски, — уж больно вы его, пгостите, засгали. Нельзя огужие запускать, ни в коем случае, Пётг Петьёвич. Вы же надеетесь, что пги случае оно сослужит вам, так послужите и вы ему. Газобгать и смазать эту игьюшку нетгудно. И ведь однажды она, возможно, сбегежет вам жизнь, уважаемый.
— Ну, — я пожал плечами, — я человек сугубо мирный, к тому же гуманитарий. Признаться, даже в университете не уделял хм… должного внимания военной истории, исключительно в рамках программы. Но я учту, непременно учту. Давайте вашу чашку.
Спать хотелось неимоверно. Организм, измученный беспокойной ночью, проведенной в скукоженном положении на полу, взывал к милосердию; антикварный, пропитанный архивной пылью артрит терзал теперь оба колена, а по внутренней части черепа ощутимо перемещались пустоты. Но неожиданно бодрый Вацлавски потребовал чифирю и высыпал на стол еще одну горсть конфет. Они, впрочем, не отвлекли внимания восхищенного ребенка в камуфляже, занятого чисткой и смазыванием парабеллума.
— Вот вы только что, капитан, про ночной штурм говорили… С радостью и, простите, воодушевлением. — Я плеснул черной вязкой на вид жидкости в пиалы. — Ну, вам-то, человеку военному, такое привычно…
— А как же, — усмехнулся Вацлавски, аккуратно ставя свою пиалу на соседний с гвардейским стол, — от победы, Пётг Петьёвич, к победе, как говоится.
— Да-да, но я, собственно, о другом… — я стоял, болтая в чашке густоту чифиря, и пытался сформулировать мысль до возможности вербальной ее передачи, — о том, что… как бы это… О том, что вот и следующей ночью можно и, думаю, нужно ожидать нового штурма…
— Нужно, — уверенно кивнул Вацлавски, похрустывая карамелью, — стопгоцентно нужно. Но ближайшие пять-шесть ночей пусть вас это не беспокоит. Ежели атаки будут подобны ночной — отобьемся от мегзавцев…
— А если нет? Ну не дураки же там у них в штабе сидят?
— Так и мы же не дугаки, — совсем развеселился капитан тигровых, — так, Пагамонов?
— ТАК ТОЧНО, ГОСПОДИН КАПИТАН!!! — не отвлекаясь от частей парабеллума, гаркнул гвардеец. В другое время от этого отклика поразлетелись бы по всему Ботаническому саду перепуганные птицы. Но теперь в черте города после всей этой канонады птиц, видимо, уже не оставалось…
— Капитан, вы сказали, пять-шесть ночей… А потом?
— Потом, Пётг Петьёвич, у нас закончится боезапас. ПТУГсов уже не осталось, да и у агтелегистов со сна'ядами беда. Кошамаг. Шли же завоевывать! Одним уда'ём хотели Москву-матушку подчинить, никто и п'едположить не мог длительных осад. Хоёшо в башне нашелся п'ёвиант и вода…
— Вы не первые ошибаетесь с блицкригом, — не смог удержать я улыбки. — Но что же будет после того, как у вас закончится весь… боезапас?
— А это только Богу известно, — пожал плечами Вацлавски, — а Бог — далеко.
А день, словно в пику ушедшей ночи, выдался неожиданно ветреным и ясным. Ветер выгнал скопившийся переулками зной, пригнул столбы дымов, а то и вовсе рассеял, и те уже не мешали солнцу плавить в жидкое золото окна и витрины. Замерли в нерешительности тополя с серой от пыли листвой, заискрили неровностями и чешуей отслоившейся краски подоконники. Не исчезли, но приутихли, прижавшись к окраинам, тупые удары канонады, смолкла совсем рождественская трещотка очередей. День стоял именно такой, какому и положено стоять в это время года над Москвой. Яркий и солнечный, но ветреный, так что асфальт не пропекался до сдобности и знойное марево не искажало перспективы.
— Денек-то какой, — вздохнул я, отворачиваясь от окна и медленно, чтоб не беспокоить артрита, возвращаясь за стол, — отличный денек, капитан…
— Да, Пётг Петьёвич, денек великолепный. Сейчас чаёк допью, да пойду посты п'ёвею. Не хотелось бы, чтоб в такой день нам гойло пе'е'езали.
Тигровый младенец решительно пренебрег благами умирающей цивилизации и загрохотал подкованными ботинками вниз по пожарной лестнице. Эхо дробным рикошетом семенило вслед по лестничным пролетам, вибрируя между метавшимися еще какое-то время створками дверей…
— Экий он у вас стремительный, — попытался пошутить я.
— Огёл, — довольно кивнул Вацлавски, — отличный солдат. Силен, туп и исполнителен.
— Хм… Если честно, когда он отдавал мне собранный парабеллум… Что-то такое мелькнуло у него в глазах… Право, мне показалось, что он сомневается, не устранить ли стратегически невыгодного старика-архивариуса для… хм… заполучения стратегически выгодного оружия…
— Да, бгосьте вы, Пётг Петьёвич, — отмахнулся Вацлавски, — пги мне он бы не посмел…
— Вот как? — ошарашенно пробормотал я.
— Газумеется, они же все желтой мантгы боятся, как дети… На том и автогитет дегжится. Вегнее, и на том тоже…
Я снова оглянулся на дверь. На сердце было положительно неспокойно. Этот громила-гвардеец мог шутя переломить мне шейные позвонки, просто сжав кулак…
— Да я шучу, шучу, — рассмеялся Вацлавски, — ну что вы, в самомделе. Ну не изве'ги же они!
В этом я уверен не был, но выдавил некое подобие улыбки. Капитан Вацлавски, довольно, словно сытый кот, щурясь, расхаживал по архиву с пиалой в одной руке и карамелиной в другой. Рассеченные лопастями жалюзи солнечные лучи пробегали по его мундиру, отчего он и правда казался тигровым. Я невольно вспомнил подробности ночной атаки и оброненную только что фразу.
— Послушайте, капитан, а что это за мантра такая?
— Мантга-то? Ведийская фогмула, — ответил Вацлавски, разглядывая выуженную наугад папку, — я в них, если честно, ни чегта не понимаю. Досталась мне случаем… Можно сказать, — Вацлавски как-то очень нехорошо, одной половиной лица усмехнулся, — я ее выменял.
Двенадцать молодых курсантов Охтинского военного мотопехотного училища (в планах Генштаба — двенадцать будущих тигровых офицеров, о чем, впрочем, пока было рано говорить), пробирались зарослями чертовски колючего кустарника-стланика к маленькой, по всем статьям забытой богом деревеньке. Укрывшейся, надо заметить, не где-нибудь в сибирских буреломах и не в глухих обителях далай-ламы, а всего в тридцати с копейками километрах от Москвы. Место это было холмисто, почва неоднородна, и неровные ковры колючего стланика легко уживались на пологих склонах с проплешинами ярко-красной глины и внезапными, слепящими неподготовленный глаз полянами снежно-белой ромашки… И все бы ничего, да пробираться курсантам по большей части приходилось брюхом по грунту, поскольку засевший где-то в низине условный противник поливал холмы прицельными и далеко не условными шаровыми молниями. Молнии эти выжигали проплешины в стланике, сушили красную глину до растрескавшейся желтизны, взметали фонтаны белых ромашек. Впрочем, по курсантам условный противник пока ни разу не попал. То ли по причине правильного, выработанного за три курса училища прижимания к земле всеми частями организма, то ли и правда из-за странных амулетов, которые понавешал на всех перед самым выездом прапорщик Бабаев. Курсанту Вацлавски вместе с амулетом была подвешена оглушительная затрещина за ночной уход в самоволку. Рука у Бабаева была увесистая. Однако хотя шаровые молнии и долбили холмы в стороне от курсантов-мотопехотинцев, глиной периодически накрывало.