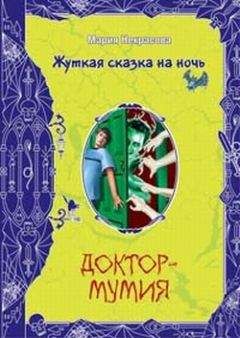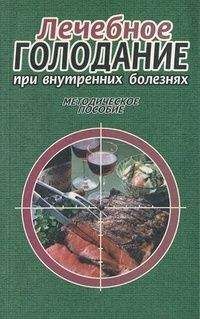Борис Толчинский - Боги выбирают сильных
— Вы, дядя, совершенны, — ответила она. — Должно быть, именно так выглядел Тутмос Третий на следующий день после свержения им царицы Хатшепсут.
— Что вы такое говорите, милая Софи! — всплеснул руками Корнелий. — Сравнение с великим фараоном, не скрою, лестно для меня, но вы какая Хатшепсут? Вы много выше Хатшепсут!
— Вы правы, дражайший дядя: мое сравнение хромает. Хатшепсут умерла вскоре после переворота, а я не собираюсь умирать. Если это не случилось минувшей ночью, думаю, мне суждена долгая жизнь.
— Не сомневаюсь, нисколько в том не сомневаюсь! — кивнул он. — Надеюсь, вы просветите меня касательно своих дальнейших планов.
— А я надеялась, это вы мне скажете, чем следует заняться бывшему министру колоний, — вздохнула она. — Видите ли, дядя, вы застали меня врасплох своим переворотом…
— А-а! — довольно хмыкнул Корнелий. — Я так и думал, что вы меня похвалите. Сознаюсь вам, дражайшая Софи, пришлось изрядно потрудиться, пока вы блистали своим отсутствием, — но каков результат, а?
Ваш любимый дядя уже консул! Вы не поздравите меня, дорогая? — …И я не успела завершить переговоры о новом союзе с дагомейскими владыками, и мой визит в Нихон не состоялся, и бездна дел на севере… в общем, дела остались.
— Это чудесно, милая, чудесно! Не будете ли вы столь любезны занять свой прежний пост, но в моем правительстве? — проникновенным голосом вымолвил Корнелий.
«Он держит свое слово, — подумала София. — Или опять надеется меня задобрить и угомонить. Вот он, голубь в руках: я смогу вернуться в министерство колоний. Но руководить правительством, как при отце, я не смогу: Корнелий не позволит. О-ох, ну почему я столь властолюбива!».
Краем глаза София увидела лицо Медеи; подруга напряженно ждала ее ответа. «Она хочет, чтобы я согласилась, тогда конфликт будет исчерпан, и между нами воцарится мир… Нет, не бывать такому миру! Aut Caesar aut nihil[73] — зачем иначе я рисковала жизнью?!».
— Вы формируете правительство, дядя? — холодно спросила она. — А разве делегаты уже утвердили вас и император подписал эдикт?
— То и другое случится менее чем через сутки, — уверенно ответил Корнелий.
София прищурила глаза и усмехнулась:
— «Многое может случиться между краем губы и бокала!»[74]
К ее удовольствию, на его лице дрогнула маленькая жилка. «Правильно боишься», — подумала она.
Но тут же Корнелий взял себя в руки.
— Неукротимость вашей натуры, дорогая, известна мне и восхищает меня. Однако же всему должен быть предел! Ну, милая Софи, взгляните на меня — ужели вы не видите мою звезду и этот калазирис?
— Звезду я вижу, новый калазирис вижу, не вижу только первого министра, — рассмеялась она. — Сдается мне, любимый дядя, вы поторопились произвести на меня впечатление. Вы рискуете остаться с этой звездой и в этом калазирисе, но без этого кабинета!
— Сей кабинет отныне мой, — убежденно произнес Корнелий. — При всей любви к вам, дорогая, его я не отдам, и не пытайтесь взять! Вы же не станете, я полагаю, совершать опрометчивые поступки, а?
— Это угроза, милый дядя?
— Это совет, к которому разумный человек всегда прислушается. На вашем месте я бы не делал ничего, о чем нам с вами сообща пришлось бы сожалеть!
— И я на вашем месте не стала бы творить такого, что опрометчиво творили вы, покуда я была в отъезде! — задорно воскликнула София. — Но я на своем месте, не на вашем, вернее, ваше место не для вас, а для меня оно! Понятно излагаю, милый дядя?
— Вы неизбежно проиграете, София, — сохраняя хладнокровие, вымолвил он, — и не получите ни этого кабинета, ни прежнего, ибо я…
Она прервала его стихами:
— «Пелеев сын! напрасно меня, как младенца, словам.
Ты застращать уповаешь: так же легко и свободно
Колкие речи и дерзости сам говорить я умею.
Знаем взаимно мы род, и наших родителей знаем…
Доблесть же смертных властительный Зевс и величит, и малит,
Как соизволит провидец: зане он единый всесилен.
Но довольно о сем; разговаривать больше, как дети,
Стоя уже на средине гремящего боя, не будем…
Что человеку измолвишь, то от него и услышишь.
Но к чему нам послужат хулы и обидные речи…
Ты от желанного боя меня не отклонишь,
Прежде чем медью со мной не сразишься. Начнем и скорее
Силы один у другого на острых изведаем копьях!»[75]
Корнелий осклабился, лукаво подмигнул племяннице и ответил:
— «Кто из бессмертных, Эней, тебя ослепил и подвигну.
С сыном Пелеевым бурным сражаться и меряться боем?
Он и сильнее тебя, и любезнее жителям неба.
С ним и вперед повстречавшися, вспять отступай перед грозным;
Или, судьбе вопреки, низойдешь ты в обитель Аида.
После, когда Ахиллес рокового предела достигнет,
Смело геройствуй, Эней, и в рядах первоборных сражайся,
Ибо другой из ахеян с тебя не похитит корыстей!»[76]
«Vae tibi gaudenti, quia mox post gaudium flebis»[77], — подумала София, а вслух сказала:
— Нет, дядя, я не буду ждать, «когда Ахиллес рокового предела достигнет». Если вы Ахиллес, то я для вас не Энеем — Парисом стану!
— Да, кстати, — словно не слыша этих слов, сказал Корнелий, — хотели бы вы знать, о чем был последний декрет вашего отца?
— И о чем же?
— Тит Юстин приказал вывести все наши войска из Нарбоннской Галлии.
— Не может быть!
— А-а, вы этого не ждали! Я так и думал.
«Отец нарочно бросил Нарбоннию в руки мятежного Варга, — с содроганием поняла она, — чтобы развязать Корнелию руки для расправы с ним, благородным сыном благородного отца! О, сколь немилосердны боги! В собственных сетях ловлюсь!».
— Мне нужен добрый совет, как поступить с Нарбоннией, — изрек Корнелий. — Эта удельная страна, знаете ли, всем надоела; довольно с ней возиться! Так что подумайте, София, не лучше ль будет вам принять пост министра колоний, пока я это предлагаю…
«Иначе он уничтожит все мои труды!», — мысленно закончила София.
— Вы совершенно правы, дядя: мне следует подумать.
— Когда вы это мне сказали в прошлый раз, я потерял родную дочь!
София вздрогнула — и поняла, сколь сильно задеты ею чувства Корнелия. Нет, нелегко дался ему отказ от Доротеи… И страшно зол он на нее, Софию!
Она поникла головой и прошептала:
— Пусть будет так! Как только император назначит вас официально, я соглашусь вернуться на свой пост.
И, словно страшась уточняющих вопросов, она стремительно удалилась. Корнелий проводил ее взглядом и посетовал:
— Загадочная, ошеломляющая женщина! Если нужно, готова пройти сквозь огонь… Надеюсь, вы не ревнуете, архонтесса?
— София выше моей ревности, ваше высокопревосходительство, — ответила Медея.
— Она не смирилась, нет, — задумчиво промолвил он. — Как вы считаете, на что она способна?
— Она способна помешать вам, не правда ли? Иначе бы вы разговаривали со мной о моей провинции, а не о моей подруге.
— Она по-прежнему ваша подруга?
— Не знаю, ваше высокопревосходительство. Она имеет все основания подозревать меня в сговоре с вами.
— Вам надлежит угомонить ее воинственный пыл.
— Никто не в силах исполнить такой приказ, ваше высокопревосходительство. София слушает себя, и больше никого.
— И все же вам придется постараться, Медея. Вы умная и расчетливая женщина, и вы должны понимать, что у Софии нет шансов победить меня. Вы называете ее своей подругой, однако нынче вам и ей не по пути.
Вы вольны выбрать, архонтесса, что вам дороже: капризная дружба побежденной или новообретенная власть. Vae victis[78] — вот основной закон политики; надеюсь, это София вам объясняла, и не раз. Итак, завтра я стану полноправным хозяином Квиринала; это случится и без вашей помощи.
Но если вы докажете свою лояльность новой власти, я этого не забуду. У меня отменная память, — с выражением проговорил Корнелий, — я помню все, благое и дурное! И я не хочу разочаровываться в вас!
«Опять я между жерновов! — подумала Медея. — Сильномогучие Корнелий и София ярятся в схватке, а на меня удары сыплются! Кто победит из них? К какому берегу пристать несчастной?».
Она поклонилась Корнелию и произнесла:
— Я тоже не хочу разочаровывать ваше высокопревосходительство.
«И эта золотистая прелестница себе на уме, как легендарная жрица Гекаты, — подумал он. — О, боги всемогущие, вам надлежит возвысить скромного Корнелия хотя бы потому, что сей достойный муж не устает сопротивляться лживым, алчным, соблазнительным сиренам!».
Когда Медея удалилась, Корнелий выпустил из смежной с кабинетом первого министра комнаты худого, с вытянутым лицом и редкими прямыми цвета перезревшего каштана волосами, мужчину.