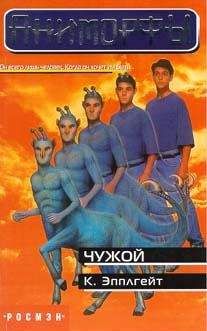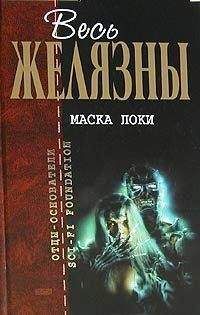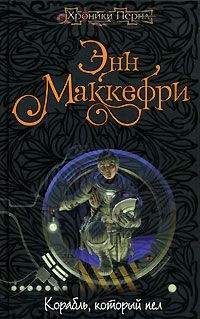Владислав Русанов - Отрок московский
В животе Никиты похолодело. Несмотря на молодость, он хорошо знал, отчего посреди зимы вороны обжираются так, что летать лень. Вспомнилась деревня на Смоленской дороге.
Неужели и здесь что-то похожее произошло?
Есть ли где-то место на многострадальной Русской земле, где можно не опасаться врага – когда захватчика чужеземного, а когда и своего? Когда перестанет литься кровь, плакать жены и матери? Или это Господь проверяет народ на крепость и силу духа?
Никита, осторожно ступая, вернулся, глянул на Вилкаса. Литвин, по обыкновению, напевал под нос песенку, бросив поводья на шею пегому.
Быстрым движением парень приложил палец к губам: тихо, мол! А потом поманил друга.
Вилкас, кажется, понял все без слов. Напряглись, а потом расслабились могучие плечи, готовясь к драке. Здоровяк спешился, вытащил из петли тяжелую палицу, которую предпочитал любому другому оружию, сунул кисть в темляк и дальше пошел, ведя коня в поводу и внимательно озираясь.
Никита терпеливо дожидался его, стоя на одном месте и продолжая наблюдать за воронами. Птицы вели себя спокойно, не выказывая страха. Видно, улетели от падали только потому, что ни кусочка больше проглотить не в силах.
Может, там волки лося задрали?
– Что? – одними губами спросил Вилкас.
Его коню, похоже, передалось настроение хозяина. Жмудок не пытался заржать или фыркнуть, только косил большим дымчато-лиловым глазом.
– Сам погляди! – ответил Никита, тыкая пальцем в воронов.
Литвин скривился.
– Я так понял, ты посмотреть хочешь?
– Ага…
– Один раз уже посмотрели.
– Ну посмотрели… Что ж, теперь труса праздновать?
– Я не боюсь! – вспыхнул Вилкас.
– А я тебя и не виню. Это я боюсь. Боюсь, но пойти посмотреть надо. Иначе совесть загрызет потом.
– Совесть? Да уж… Она такая. Поедом съест… Ну идем, друг.
Вилкас кинул повод на кривую ветку.
Вдвоем тихонько пошли, стараясь не тревожить заснеженный лапник, прислушиваясь и держа оружие наготове. Никита мысленно потянулся к домовому, мирно дремлющему у него за пазухой, но «дедушко» молчал. Он вообще перестал разговаривать с парнем после того дня, как они повстречались с Финном и Любославом. И по ночам выбирался из куклы очень редко. Только чтобы проглотить пару крошек хлеба. Или обиделся на что-то, или устал от долгого путешествия. Домовые, они привыкли в тепле жить, за печкой да по сусекам, любят молоко и мед. А тут что? Сухие корки, мороз, ночевки у костра в лесу. Не помер бы… Никите, с одной стороны, было жаль «дедушку», вынужденного скитаться вдалеке от родного очага, а с другой стороны – он уже привык к нему. Да и куда домового денешь? В чужую избу отдать? Так там свой хозяин есть. Это если вдруг наткнешься на людей, новоселье справляющих…
– Кажись, вижу! – шепнул Вилкас.
Он показал пальцем в просвет между раскидистыми елями.
Огненно-рыжий сполох метнулся через поляну. Никита вскинул лук, натягивая тетиву до щеки, и только потом сообразил, что это лисица. Сердце колотилось, как бешеное. Парень опустил оружие, зачерпнул пригоршню снега и обтер лоб и щеки.
– Ты чего? – удивился литвин.
– Сам не знаю… Дерганый стал. Устал, наверное. – Парень вздохнул, поёжился. – Пойдем, посмотрим?
– Идем!
При их приближении несколько зверьков молнией метнулись с поляны. Куницы, скорее всего. Четыре ворона лениво перепорхнули подальше, посматривая на людей осоловевшими глазами. Еще с десяток птиц сидело на деревьях.
Никита задумчиво уставился на испещренный следами снег. По всей видимости, здесь перебывали падальщики со всех окрестностей. За исключением волков.
Три пятна от костровищ. Два ряда мертвых тел.
И еще один труп, привязанный к березке.
Он-то и заинтересовал Никиту больше, чем остальные.
Еще издали мертвец показался знакомым. Разворот плеч, ровная борода. Правда, сейчас ее покрывала смерзшаяся сосульками кровь.
– Илья Приснославич… – прошептал парень. – Вот не думал, не гадал свидеться.
– Это тот смоленский воевода, что тверичам повстречался, – сказал Вилкас. И присвистнул. – Ты гляди, чем его!
Но ученик Горазда и сам уже узнал свое любимое оружие – кинжалы-теча.
Он подошел, стараясь не смотреть в залитое потеками крови, кое-где расклеванное лицо Ильи. Взялся за рукоятки, потянул. Сталь намертво заклинилась в древесине. Кинжалы не сдвинулись ни на волосок.
– Дай-ка я! – Литвин уважительно, но настойчиво оттеснил парня плечом, захватил широкими ладонями утонувшие в них рукояти. Крякнул и вырвал.
Никита ожидал, что голова воеводы сейчас безжизненно упадет на грудь, но она не шелохнулась.
«Замерзла!»
– Откуда же они тут? – удивился Вилкас, протягивая теча Никите.
– Да с собой, видать, возил. – Парень принял оружие, обтер клинки снегом и замер, раздумывая, сунуть за пояс или упрятать в мешок.
– Тебя искал, – кивнул литвин.
– Да. Искал меня. А нашел…
– Кого?
– Смерть свою нашел, – вздохнул Никита.
– Это точно… И, похоже, все смоляне с ним. Поглядеть бы, с кем они сцепились. Из-за чего, мы все равно не узнаем.
Они подошли к трупам. Лесное зверье и птицы постарались на славу. Лиц и рук не осталось ни у кого из убитых. А вот одежда и оружие. Татарские куяки и калбаки ни с чем не спутаешь. Почти два десятка ордынцев лежали ровнехонько. Сразу видно – свои укладывали. Хоть нукуры и не смогли похоронить товарищей согласно обычаям предков, но последние почести воздать постарались: мечи, сабли и луки оставили при покойниках, раздевать и разувать не стали. Смолян свалили как попало. Но одежду и обувь тоже не тронули. Скорее всего, татарский отряд не за добычей в полоцкие земли заявился. Зачем обременять себя и коней лишним грузом? Стало быть, никакие другие ордынцы здесь оказаться не могли…
– Это он, – одними губами прошептал Никита.
– Кто – он? – не понял литвин.
– Федот. Татарва его Кара-Кончаром называет. Помнишь, Улан рассказывал?
– Помню. – Вилкас охнул, полез пятерней под мохнатую шапку. – Он же…
– Да. Он моего учителя убил. Который и его учителем тоже был. Он меня хотел убить.
– Я помню.
Никита крутанул течи в пальцах. Как давно он не держал их в руках.
– Знаешь, Волчок, я боюсь.
– Да ладно! – опешил литвин. – Ты? Боишься?
– Боюсь. Дядька Горазд всегда говорил, что Федот лучше моего учился. К моим годам он ему уже мечом работать доверял. А мне только подержать давал. Стойки, равновесие…
– И что?
– У него теперь меч учителя. Посмотри на этих смолян. – Никита указал на одного убитого дружинника, горло которого перечеркивал ровный разрез. – Все сходится… Правду Улан говорил – Федот и учителя только потому убил, что мечом хотел завладеть.
– Пускай подойдет поближе! – Вилкас взмахнул палицей.
– Ты себе представить не можешь, как он опасен. – Парень покачал головой. – Смотри! Этот убит цзянем. И этот, и эти двое… Он, почитай, в одиночку половину смолян положил, если не больше.
– Ничего! Не надо бояться, Никита! Ты с кинжалами. Я с дубиной. А если сзади еще Улан с луком стоять будет? И оборотни… Какой Федот нас напугать может? Федот, да не тот…
Он улыбнулся и хлопнул друга по плечу.
Никита через силу ответил на улыбку.
Потом сунул кинжалы за пояс и отвесил земной поклон мертвому воеводе.
– Прости, Илья Приснославич, что убили тебя, выходит, из-за меня. Извини, что меня рядом не было. Я за тебя отомщу. Пускай я еще не дружинник, а отрок. И возрастом, и умением. Но я стану дружинником и за землю Русскую еще поборюсь.
Развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Знал, что Вилкас не отстанет.
«Как Василисе сказать, что убили воеводу Люта? – вдруг подумалось. – Да… Это если доведется свидеться».
Выходили к костру, разведенному оборотнями, молча. Каждый думал о своем. Никита не знал, что ощущает Вилкас. Сам же он чувствовал страх. Парень прекрасно отдавал себе отчет – против Федота он не боец. По словам Горазда, хотя старик и не очень любил вспоминать о сбежавшем ученике, тот схватывал движения быстрее Никиты и учился прилежнее, изнуряя себя упражнениями. И не стоит забывать, что после ухода от учителя Федот много лет посвятил сражениям и войнам, оттачивая мастерство не в потешной схватке, а в смертельном противостоянии.
Теперь отряд, возглавляемый этим беспощадным и умелым бойцом, бродит где-то рядом. Улан говорил, что из улуса Ялвач-нойона с Федотом отправились две с половиной дюжины нукуров. Сколько их лежало сегодня под березками? Меньше, ой как меньше. И какие бы слова утешения ни говорил Вилкас, Никита боялся.
Хлопотавший у костра Улан сразу заподозрил неладное.
– Что случилось, Никита-баатур?
Парень только рукой махнул. Сел у огня, уставился в пляшущие по сухому хворосту язычки пламени.
Татарчонок не отставал. Зудел и зудел над ухом, как назойливый овод. Никиту начала разбирать злость, и он едва не сорвался. Мог накричать на ордынца, обидеть, а за что, спрашивается? За свой страх и нерешительность?