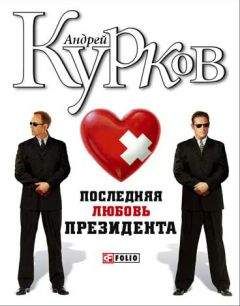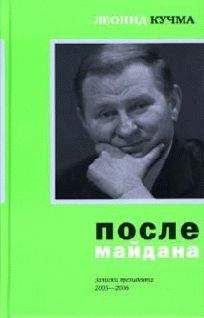ХОВАРД ФАСТ - ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНИЦА
– Разве ты не сказал, что это для совета? Роуленд пожал плечами:
– Они уверены, что эти вожди уже не вернутся. Они со всеми перецеловались и простились. Вот какие у них теперь мысли.
Уэсселс принял вождей у себя в конторе, сидя в старой качалке, покуривая сигару и стараясь придать своему лицу выражение полного беспристрастия. Стоя перед ним, эти три жутких и дрожащих от стужи скелета всё же пытались и в лохмотьях сохранить прежнюю гордость. Но для трезвого человека это были только тени. Здесь же находились Врум и два солдата. Врум нюхал носовой платок, смоченный анисом. Роуленд старался держаться возможно дальше от вождей.
Уэсселс прямо перешёл к делу.
– Видите, – сказал он, – до чего вас довело упрямство. Вы теперь убедились, что подчинение закону – дело очень хорошее. В моём сердце нет ненависти к вам. Возвращайтесь к своему народу и скажите, чтобы все вышли и готовились ехать на юг. Тогда я дам им поесть.
Ужас и удивление прозвучали в голосе Роуленда, когда он перевёл ответ вождей.
– Они никогда не пойдут на юг. Вы можете убить их – это всё! – заявил он, пытаясь проникнуть в душу своих сородичей и понять, откуда у Шайенов эта неистовая верность тому, что белые люди называют свободой.
Ровным голосом, стиснув в зубах сигару, Уэсселс приказал солдатам:
– Заковать этих краснокожих негодяев в кандалы! Индейцы не поняли его слов. Они глядели на него без надежды, без любопытства, без всяких иных чувств, кроме мрачной, свойственной им гордости. Они не двинулись с места.
Солдаты отступили и, подняв ружья, навели стволы на вождей. Роуленд отскочил в сторону. Врум расстегнул кобуру револьвера.
– Скажи им, что они арестованы, – хрипло произнёс Уэсселе.
Роуленд заговорил, но вожди уже поняли, что происходит.
Один из них – гигант с длинным шрамом, пересекавшим его исхудалое лицо – выхватил из-под лохмотьев нож. Второй бросился на одного из кавалеристов, но тот нанёс ему оглушающий удар по голове прикладом своего карабина. Тогда высокий индеец с ножом, издав боевой клич, прыгнул на другого солдата. Солдат отступил, боясь стрелять в этот клубок борющихся, переплетённых тел. Он отбивал удары ножа рукой, получив при этом несколько зелёных ран. Но, очутившись за спиной индейца, Врум принялся колотить его по голове длинным стволом своего кольта. Уэсселс, вытащив револьвер, навел его на третьего вождя, однако между ним и индейцем находились Врум и солдаты. Тот индеец, которого колотил Врум, упал с разбитой, окровавленной головой, а Уэсселсу удалось выстрелить в другого вождя.
Выстрел, должно быть, не попал в цель; он наполнил контору грохотом и разбудил весь форт. Врум обернулся было к вождю, но тот, оттолкнув его, с удивительной ловкостью выскочил в окно, увлекая за собой стекла и раму. Он перевернулся несколько раз в снегу и, вскочив на ноги, зигзагами побежал к бараку. Уэсселс, кинувшись к выбитому окну, разрядил весь барабан револьвера в бегущего индейца, но расстояние было уже слишком велико, и индеец, пригибаясь, увернулся от выстрелов.
Когда солдаты с карабинами в руках добежали до окна, индеец находился уже возле барака. Он проскочил мимо часового, пытавшегося преградить ему дорогу, и вбежал в открытую дверь.
Весь гарнизон проснулся, солдаты сбежались отовсюду. Врум вышел, чтобы успокоить их, а Уэсселс отдал приказ надеть наручники на оглушенного вождя. Индеец со шрамом на лице только что пришёл в себя. Он ощупью старался отыскать нож, но Уэсселс отбросил нож ногой, навёл на индейца револьвер и держал его под прицелом, пока на другого надевали наручники. Солдат, зажав рану на руке, спотыкаясь, побрел в лазарет.
Уэсселсу казалось, что он стоит перед стеной неизмеримой высоты, не имеющей конца, неприступной, гнетущей, закрывшей все выходы. Он чувствовал её и вечером, за обедом. Он видел её и в глазах офицеров, хотя они избегали смотреть на него; в той манере, с какой они ели – медленно, глядя в тарелку, в том, как пили воду и кофе – с затаённым изумлением и ужасом, точно впервые поняли, что это значит – чувствовать во рту мягкую, вкусную пищу, увлажнять напитками пересохшее горло, иметь в своём распоряжении всё, что тебе хочется: кофе, так щедро сдобренный сгущённым молоком, что он становится сушёным и сладким, мясо, картофель, хлеб, варенье, стоявшее в четырёх вазах на столе, крекер, сигары.
Но у них не было аппетита. Пища оставалась на тарелках, её уносили на кухню и выбрасывали вон. Во всю длину большого стола сидели капитаны, старшие лейтенанты и просто лейтенанты, и полковые знамена свисали над их головами. Большинство из них были молоды, некоторые приближались к среднему возрасту. Но никто из них не отдавал себе отчёта в том, что это значит – убить сто пятьдесят человек, уморив их голодом. Большинство старалось просто не думать об этом.
– Кажется, они прекратили вой, – сказал один из них.
И тогда все стали прислушиваться. Врум закурил сигару. Кто-то попытался рассказать анекдот, с трудом до вел его до конца, но никого не развеселил, и в комнате по-прежнему воцарилось гнетущее молчание.
И всё-таки никто не встал из-за стола.
Бекстер сказал:
– Они забаррикадировались там. Дженкинс пытался отворить дверь.
Уэсселс кивнул.
Никто из присутствующих не смел предложить, чтобы индейцев накормили. Для Уэсселса же отменить собственный приказ означало бы полное крушение каких-то основ, того, что давало смысл его жизни. А остальным мерещилась за Уэсселсом бездушная громада «приказов из Вашингтона».
Затерянные в огромной пустыне льда и снега, они всё езде чувствовали себя покорными слугами тех иллюзий, которыми оправдывали свою жизнь.
– Кажется, у них есть ружья, – угрюмо заметил Аллен. – Роуленд уверен в этом.
«Если бы Джонсон позволил мне тогда обыскать женщин…» – подумал Уэсселс.
– У них не может быть много ружей, – сказал он. И каждый подумал: через день-другой они начнут умирать. Не всё ли равно, есть у них ружья или нет!
– Этот метис наврал, – сказал один из них. Он был слишком испуган, чтобы врать. Предложили сыграть в покер. Врум без особого энтузиазма стал собирать партнеров для виста. Кто-то подошёл к двери и, открыв её, взглянул на термометр. Он показывал четыре градуса ниже нуля.
– Холодно…
Врум всё ещё искал партнёров для виста.
– Завтра мы войдём туда, – неуверенно сказал Уэсселс.
– …четыре градуса ниже нуля.
– Как обстоит дело с Лестером? – спросил Аллен о солдате, который был ранен в руку.
– Всё в порядке, хотя порезы глубокие. Если раны не загноятся, он скоро поправится.
Офицеры снова сели за стол. Врум уже не искал партнеров. Все молча смотрели, как вестовой сметает крошки со скатерти.
Полная луна поднялась во всём своём блеске. Внезапное похолодание разогнало тучи, и небо напоминало чёрную чашу, осыпанную тысячами звёзд. В девять часов вечера на учебном плацу можно было читать газету, не напрягая зрения, – таким ярким был лунный свет, отраженный снегом. Кольцо холмов и тёмные, покрытые снегом сосны только усиливали контрасты, а постройки форта казались глыбами, наваленными в беспорядке на залитой светом площадке.
Койот, запутавшись среди всевозможных запахов пиши, лошадей и очень знакомого запаха индейцев, сохранившегося где-то в укромной извилине его маленького мозга, выл на блестящую луну. Он выл до тех пор, пока повар не спустил с цепи двух собак-волкодавов и те не отогнали койота обратно в тёмный сосновый лес.
Лошади, окутанные облаками своего дыхания, беспокойно ржали в длинных холодных конюшнях.
Часовые – а их было много: цепь часовых вокруг барака, часовые у ворот, у конюшен – и те, кто по обязанности вынужден был находиться под открытым небом, двигались быстро и возбуждённо, и их дыхание тянулось за ними белыми полосами.
Маркитант, рано закрывший свой склад, пытался отвлечься чтением омахской газеты.
Солдаты в казармах играли в карты, в кости, читали десятицентовые романы, чистили снаряжение, а некоторые от безделья улеглись спать, несмотря на ранний час.
У сержанта Лэнси болели зубы, сильно распухла щека, покраснели глаза. Он не спал уже две ночи.
Капитан Уэсселс, куря сигару, наблюдал, как группа офицеров без всякого оживления играет в покер по маленькой. Так как в форте была нехватка рейсовых монет, то вместо них использовались маленькие голубые жетоны, служившие личными знаками. Перед Врумом, которому сильно везло, лежала целая куча этих знаков. Лейтенант Аллеи писал письмо матери – подробный отчёт о каждом часе суток: он привык это делать с тех пор, как поступил в военную академию. Письмо изобиловало мельчайшими подробностями: пусть мать не беспокоится, он носит теперь тёплое белье, а койот – совсем не волк и нисколько для человека не опасен, это маленькое животное, с лисицу, ни на что не годное, только ворует и лазает в помойные ведра. Насчёт индейцев тоже пусть не тревожится – теперь, наверно, уже никаких сражений в прериях не будет.